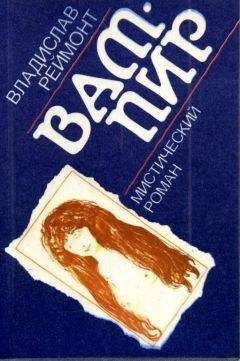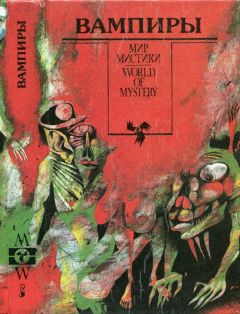Владислав Реймонт - Мужики
Словом, они все больше ожесточались друг против друга, потому что в глубине этой злобы скрывалась ревность. Оба они давно, еще с весны, а может быть, и с Масленицы, ходили за Ягусей, как пристяжные, и каждый старался вытеснить другого. Но Матеуш делал это почти на глазах у всех и открыто говорил о своей любви, Антек же вынужден был скрывать ее, и глухая, жгучая ревность терзала его сердце. Они с Матеушем никогда не были приятелями, всегда косились друг на друга и при людях грозили один другому, потому что каждый считал себя сильнее. А теперь вражда росла с каждым днем — не прошло и недели, как они уже и здороваться перестали, проходили мимо, сверкая глазами, как разъяренные волки.
Матеуш был парень совсем не злой, напротив — сердце у него было отзывчивое и рука щедрая, но он отличался самонадеянностью и других ни во что не ставил. Был у него еще один недостаток: он считал, что перед ним ни одна девушка не может устоять, и любил хвастать своими победами — только для того, чтобы во всем первенствовать среди товарищей. Сейчас ему льстило, что Антек работает под его командой, и он охотно всем рассказывал, что тот его во всем слушается, смотрит ему в глаза покорно, как кролик, боясь, как бы он не прогнал его с работы.
Тех, кто знал Антека, это удивляло, но они решили, что парень, видно, смирился и терпит все, только бы не лишиться работы. Другие утверждали, что добром это не кончится, что Антек Матеушу не простит и не нынче-завтра ему отплатит. Они готовы были даже держать пари, что он Матеуша в бараний рог согнет.
Разумеется, обо всех этих разговорах Антек ничего не знал, потому что он всех избегал, при встрече с знакомыми молча проходил мимо, с работы шел прямо домой, а из дому — на работу. Но он о них догадывался, потому что видел Матеуша насквозь.
— Искрошу я тебя, стервеца, как капусту, и собаки есть не станут! Сбавишь спеси, забудешь надо мной куражиться! — вырвалось у него раз на работе так громко, что Бартек услышал и сказал:
— Плюнь, не обращай на него внимания, ведь ему за то и платят, чтобы он нас понукал.
Старик не понимал, в чем тут дело.
— А я не терплю и собак, которые попусту лают.
— Очень уж ты все к сердцу принимаешь, смотри, печенка вспухнет! И за работу, как я примечаю, слишком горячо берешься.
— Это оттого, что мне холодно, — сказал Антек первое, что ему навернулось на язык.
— Надо все делать не спеша, по порядку, — Господь Бог тоже мог мир создать в один день, а создавал его почти целую неделю, с передышкой. Работа — не птица, в лес не улетит, — что за охота тебе и какая надобность надрываться для мельника или кого другого? А Матеуш все равно что собака, которая стадо стережет, — разве будешь на нее серчать за то, что она лает?
— Я уже вам говорил, как я на это смотрю… А где это вы летом были, что-то я вас в деревне не видал? — спросил Антек, чтобы переменить разговор.
— Немножко работал, а немножко походил, на божий свет поглядел, и глаза тешил и душе расти помогал, — говорил Бартек медленно, обтесывая дерево с другой стороны. Порой он разгибал спину, потягивался так, что трещали суставы, и, не выпуская из зубов трубки, словоохотливо рассказывал:
— Работал я с Матеушем на стройке в усадьбе. Да надоела мне гонка, а на дворе весна, солнышко, — вот я и бросил работу… А шли в ту пору люди в Кальварию. Пошел и я с ними, чтобы и от грехов очиститься и на свет божий поглядеть.
— Далеко до этой Кальварии?
— Две недели мы шли — это за Краковом, — да я не дошел. В одной деревне, где мы полдничали, хозяин хату себе строил, а понимал он в этом деле столько, сколько коза в перце. Ну, я и рассердился, изругал его, сукина сына, за то, что он столько дерева испортил без толку… да и остался у него. Очень уж он просил. В два месяца выстроил я ему дом — что твоя усадьба. И он был так рад, что даже за свою сестру сватал меня, за вдову. У нее там поблизости земли пять моргов было.
— Старуха, должно быть?
— Конечно, не молодая, но ничего еще, — вот только лысовата малость да косолапа, глаза, как сверло, а лицом гладкая, как каравай, который мыши недельки две обгрызали. Славная баба, добрая, кормила меня на славу: и яичницу с колбасой подаст, и водку, и сало, и другую лакомую еду. И так я ей по вкусу пришелся, что в любой день готова была меня под перину пустить… Пришлось мне ночью сбежать…
— Отчего же не женились? Все-таки пять моргов…
— И вшивый тулуп, что остался от покойника-мужа. А на что мне жена? Давно опротивело мне бабье племя! Кричат, орут, суетятся, как сороки на заборе. Ты ей слово, а она тебе двадцать, — как горохом сыплет… У мужика разум есть, а она только знай языком треплет. Ты с ней, как с человеком, говоришь, а она не поймет, не рассудит, и только болтает, что в голову взбредет. Слыхал я, будто Господь дал бабе только половину души, — и это, должно быть, правда. А другую половину ей, видно, черт смастерил!
— Есть между ними и толковые… — сказал Антек хмуро.
— Да, говорят, есть и белые вороны, только их никто не видал.
— А что же, у вас жены никогда и не было?
— Была, была! — Бартек вдруг замолчал и устремил свои выцветшие серые глаза куда-то вдаль. Он был уже старый человек, высохший, как щепка, жилистый и прямой, но сейчас он вдруг как-то сгорбился и быстро-быстро моргал глазами, а трубка заерзала у него в зубах.
— Спускается, тащи! — кричал работник у пил.
— Эй, Бартек, живей! Не стой, а то и пилы остановятся! — заорал Матеуш.
— Вот дурак! Скорее скорого не сделаешь! Села ворона на костел, каркает и думает, что она — ксендз на амвоне! — буркнул Бартек сердито.
Видно, его что-то расстроило: он теперь чаще отдыхал и с нетерпением поглядывал на небо — скоро ли полдень.
Хорошо, что полдень скоро наступил. Пришли женщины с судками, из-за мельницы появилась Ганка. Лесопилку остановили, и все пошли обедать на мельницу. Антек прошел в каморку Мельникова работника, с которым они были приятели и не одну бутылочку распили вместе. Он уже больше не бегал от людей, не сторонился их, но смотрел на них такими глазами, что они сами его избегали.
Жара в каморке была такая, что дышать было нечем, а мужики сидели в тулупах и весело калякали. Это были жители дальних деревень, они привезли на помол зерно и ожидали, пока его смелют. Беспрестанно подкладывали торф в уже раскалившуюся докрасна печурку, курили так усердно, что вся каморка тонула в табачном дыму, и разговаривали.
Антек сел под окном на каких-то мешках, поставил между колен горшок и жадно уплетал капусту с горохом, потом картофельные клецки с молоком. А Ганка присела рядом и с нежностью всматривалась в него. Он сильно похудел, потемнел лицом, и от работы на морозе кожа местами шелушилась, но, несмотря на это, он казался Ганке красивее всех на свете. Он и в самом деле был хорош — высокий, стройный, гибкий, в талии тонкий, в плечах широкий. Лицо у него было продолговатое, худое, нос с горбинкой, глаза большие, серо-зеленые, а брови — словно кто углем провел черту через весь лоб, от виска до виска, и когда он в минуты гнева их сдвигал, то даже страшно становилось. Высокий лоб был до половины закрыт ровно подстриженными, очень темными волосами; усы Антек брил, как и все, и белые зубы, словно жемчуг, сверкали меж красных губ. Да, он был красавец, и Ганка не могла на него вдоволь наглядеться.
— Не мог разве отец принести обед? Неужто ты будешь каждый день ходить в такую даль?
— Ему надо навоз убрать из-под телки… И мне хотелось самой отнести.
Ганка всегда так устраивала, чтобы самой нести мужу еду и иметь возможность посмотреть на него.
— Ну, как у вас там? — спросил он, доедая обед.
— Да ничего. Я уже напряла целый мешок шерсти и отнесла органистихе пять мотков. Она так довольна! Вот только Петрусь что-то мечется, ничего не ест — жар у него.
— Объелся — и все тут.
— Должно быть, так… Янкель приходил за гусями.
— Продашь?
— Как можно! А весною покупать придется!
— Ну, как знаешь, — дело твое.
— У Вахников опять драка была, даже за ксендзом посылали, чтобы он их угомонил… А у Пачесей, говорят, теленок морковкой подавился.
— Да мне-то что за дело! — нетерпеливо пробурчал Антек.
— Органист приход объезжает, — сообщила Ганка через минуту, уже с некоторой робостью.
— Что ж ты ему дала?
— Два пучка чесаного льна и четыре яйца. Он сказал, что, когда нам понадобится, даст воз овса, а денег подождет до лета, или можно будет отработать ему. Да я не взяла, зачем нам у него брать — ведь нам еще с отца причитается корм для скотины, мы сняли всего два воза, а столько моргов засеяли…
— Не пойду я отцу напоминать, и ты не смей! Возьми у органиста, отработаем. А не хочешь, так последнюю телку продадим: у отца я, пока жив, ничего просить не стану. Понятно?