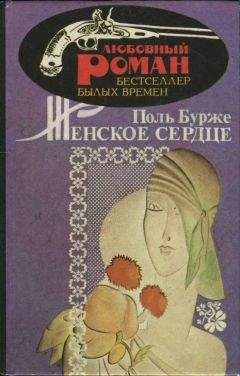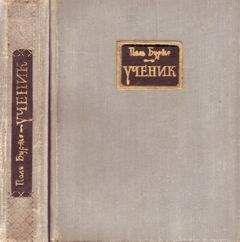Поль Бурже - Трагическая идиллия. Космополитические нравы
За этот трагический день Оливье испытал много острых ощущений. Но ни одно из них не могло сравниться жестокостью со зрелищем этого безмолвного, простого, неизлечимого горя. Все мужественное чувство друга проснулось в нем, и его собственное горе обратилось в глубочайшую нежность к этому товарищу его детства, его юности, который терзался тут, у него на глазах. Он прикоснулся рукой к его плечу, мягко и слегка, как бы угадывая, что при этом прикосновении тело ревнивого любовника должно было содрогнуться от отвращения, почти от ужаса.
— Пьер, — сказал он, — это я, Оливье… Ведь ты сам должен чувствовать, что мы не можем таить в сердце то, что гнетет нас обоих. Это бремя давит меня так же, как и тебя. Ты несчастен. Я тоже несчастен. Вместе нам будет легче сносить горе, опираясь друг на друга… Я обязан объяснить тебе все и пришел для этого. Ты можешь выслушать меня и отвечать мне. Между нами нет более тайн. Госпожа де Карлсберг все мне сказала…
Отфейль, казалось, не слышал первых слов своего друга, но при имени любовницы он резко поднял голову. Страшно исказившееся лицо его говорило о той муке, когда человек не в силах даже и плакать. Отрывистым голосом, дрожавшим от внутренней бури, отвечал он:
— Объяснение между нами? Какое? Что узнавать тебе? Что узнавать мне? Что ты был любовником этой женщины в прошлом году? Что я сменил тебя теперь?..
Потом, как бы ожесточаясь от беспощадности собственных слов, он вскричал:
— Если ты снова хочешь повторить мне то, что ты говорил, когда я не знал, о ком идет речь, так это бесполезно: я ни словечка не забыл… ни историю о первом любовнике, ни историю о другом, из-за которого ты ее покинул… Это чудовище лживости и притворства. Я знаю. Ты показал мне это. Не начинай снова. Мне будет очень тяжело, да оно и бесполезно. С сегодняшнего дня она умерла для меня. Больше я не знаю ее…
— Ты слишком суров к ней, — возразил Оливье, — и ты не прав.
Он не мог вынести циничных обвинений, направленных Пьером против Эли. Какое горе обнаруживали они в сердце влюбленного, который так оскорблял любовницу, еще вчера бывшую его кумиром! И притом в его ушах все еще звучал искренний и страстный тон этой женщины, когда она говорила о своей любви. Непреоборимое великодушие заставило его высказать все это, и он повторил:
— Нет, ты не прав. Нет, с тобой она не была ни лгуньей, ни притворщицей! Она любила тебя, она любит тебя глубоко, страстно… Будь беспристрастен: могла ли она сказать тебе то, что ты знаешь теперь? Если она лгала тебе, то для того, чтобы сохранить тебя: ведь ты был первой и единственной любовью всей ее жизни…
— Неправда, — с горечью перебил Отфейль, — нет любви без полной откровенности… Но я простил бы ей все, все это прошлое, если бы только узнал от нее самой!.. Да ведь был же первый день, первый час… Я отлично помню этот день, я не забыл этого часа… В тот день мы говорили о тебе. Я еще слышу, как она произнесла твое имя. Я не скрыл от нее, как люблю тебя. Она знала от тебя, как ты меня любишь… Ведь так просто было не видеться больше со мной, не завлекать меня, не овладевать мною! Ведь на свете есть столько людей, для которых это прошлое было бы только прошлым…
Но нет: она хотела мести, низкой мести! Ты покинул ее. Ты женился. Она ухватилась за меня, как убийца хватает нож, чтобы поразить тебя прямо в сердце… Посмей отрицать… Но ведь я же читал, что ты сам думаешь так, я читал написанное твоей собственной рукой! Написал ты, да или нет?
— Я написал, — отвечал Оливье, — и был не прав. Я думал так и обманулся. Ах! — продолжал он с истинным отчаянием. — Ведь надо же так случиться, чтобы я, я защищал ее перед тобою!.. Но если бы я не верил, что она любит тебя, разве я первый не сказал бы тебе теперь: «Это негодница!..» Да, я думал, что она завлекла тебя, чтобы отомстить, я думал так с самого дня приезда, когда мы гуляли в сосновом лесу и ты назвал мне ее. Я так ясно видел, что ты любишь ее, и так страдал от того!..
— Значит, ты сознаешься! — вскричал Пьер.
Он поднялся и, схватив друга за плечи, начал с яростью трясти его, повторяя:
— Ты сознаешься, ты сознаешься!.. Ты угадал, что я люблю ее, и ты ничего не сказал мне! Целую неделю ты оставался со мной, рядом со мной, видел, что я отдал все свое сердце, все, что есть во мне доброго, преданного, нежного, все отдал твоей бывшей любовнице, и ты молчал! И если бы я не узнал вчера от твоей жены, ты оставил бы меня с каждым днем все глубже и глубже погружаться в эту страсть к женщине, которую ты презираешь!.. Не теперь надо было сказать мне: «Это негодница», а в первый час, в первую минуту…
— Но мог ли я? — перебил Оливье. — Ты сам знаешь, долг чести запрещал мне…
— А долг чести не запрещал тебе писать ей, — подхватил Пьер, — когда ты знал, что я люблю ее, не запрещал просить, потихоньку от меня, свидания у нее, идти к ней, когда меня там не было!..
И смотря на Оливье взглядом, в котором тот увидел блеск настоящей ненависти, он продолжал, задыхаясь:
— Но теперь я все вижу ясно. Вы оба играли мной… Ты хотел воспользоваться своим открытием, чтобы снова вторгнуться в ее жизнь. О, Иуда! Ты предал меня, ты тоже… О, предатель, предатель, предатель!
И, испуская рев раненого животного, он упал в кресло и разразился рыданиями, повторяя:
— Дружба, любовь, любовь, дружба — все погибло, я все потерял, все меня обмануло, все солгало… О, как я несчастен!..
Дюпра побледнел и отступил перед этим взрывом ярости. Оскорбления друга причиняли ему жестокую боль, но ни капли гнева, ни капли самолюбия не примешивалось к этой боли. Ужасная несправедливость существа, столь доброго по натуре, столь деликатного, нежного, только увеличивала его сострадание. В то же время он сознавал, что их взаимные отношения непоправимо рухнут, если разговор так кончится, и это сознание несколько вернуло ему хладнокровие, которое другой потерял бы окончательно, и серьезным голосом, глубоко растроганный, он отвечал:
— Да, мой Пьер, ты должен быть очень несчастен, если заговорил так со мной, твоим старым товарищем, твоим другом, твоим братом!.. Я — Иуда? Я — предатель?.. Но взгляни мне прямо в лицо. Ты оскорбил меня, грозил мне, почти бил… И видишь — в сердце моем нет к тебе ничего, кроме дружбы, такой же полной, нежной, живой, как и вчера, как и третьего дня, как десять, как двадцать лет тому назад!.. Мне играть тобою, мне обманывать тебя? Нет, ты не можешь верить в это, и не веришь… Наша дружба! Ты знаешь, что она не умерла, что она не может умереть!..
И все это, — голос его, в свою очередь, зазвучал негодованием и горечью, — и все это из-за женщины!.. Женщина встала между нами! И ты все забыл, от всего отрекся… Умоляю тебя, Пьер, опомнись, скажи, что ты говорил в возбуждении, что ты не переставал любить меня и верить, что я люблю тебя. Прошу тебя во имя нашего детства, во имя тех наивных часов, когда мы прижимались друг к другу, грустя, что мы не родные братья. Есть ли у тебя из тех времен хоть одно-единственное воспоминание, к которому я не был бы примешан?.. Выбросить тебя из своей жизни — значило бы для меня одним ударом разрушить все мое прошлое, все, чем я горжусь, к чему возвращаюсь всякий раз, как желаю отмыться от скверны настоящего!..
Опомнись, прошу тебя во имя нашей юности, во имя того, что было в ней самого прекрасного, самого великого, самого чистого. В 70-м году, накануне Седана, когда ты хотел поступить на службу, ты побежал ко мне — помнишь? — и встретил меня: я шел к тебе. И помнишь, как мы обнялись? О, если бы тогда кто-нибудь сказал нам, что наступит день, когда ты назовешь меня предателем и Иудой, меня, бок о бок с кем хотел ты умереть! С какой верой ответили бы мы: «Это немыслимо!»
А та ночь в снегу, в Шагейском лесу, когда мы узнали, что все погибло, что армия переходит в Швейцарию и что завтра мы должны будем отдать оружие. Помнишь? А наша священная клятва, что если когда-нибудь надо будет еще раз сразиться, то мы будем снова вместе, рядом, сердце к сердцу, в одной шеренге!.. Если придет этот час новой борьбы, то что станешь ты делать без меня?..
О, ты глядишь на меня, ты понимаешь, ты опомнился… О, мой Пьер, обнимемся, как 3 сентября… Прошло больше десяти лет, а было как будто вчера… Все может отнять у нас жизнь, но не это, верь мне, не нашу дружбу… Остальное все — страсть, чувственность, вожделение. Но тут, тут все наше сердце!..
Пока Оливье говорил, фигура Пьера в самом деле как бы преобразилась. Рыдания его прекратились, в его глазах, еще полных слез, загорался огонек. Голос его друга выражал такую трогательную мольбу, образы, вызванные братской речью, напоминали несчастному о таких высоких чувствах, о духовном общении, по временам столь нежном, по временам полном мужества и героизма!.. После страшного, горестного потрясения в нем снова просыпалась от призыва старого товарища по оружию энергия мужчины.
Он встал, минуту, казалось, колебался и наконец бросился в объятия Оливье. Они сплелись в мужественном порыве, который осушает слезы на щеках, поддерживает слабеющую волю, восстанавливает в сердце силу для благородной решимости. Потом Пьер просто и коротко сказал: