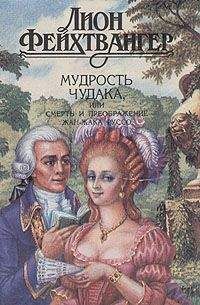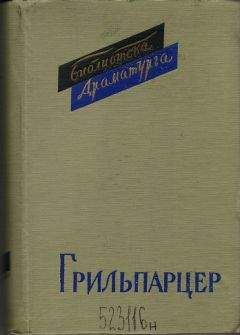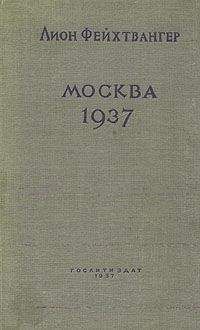Лион Фейхтвангер - Испанская баллада (Еврейка из Толедо)
Казалось, прошла вечность, прежде чем она открыла глаза. Сперва она не могла сообразить, что с ней. Потом сообразила, сказала:
— Прости мою слабость. Ведь я понимала, что это не может продолжаться вечно. Я знаю, что случилось в Бургосе, мне сказала кормилица Саад, и мне надо было об этом помнить и не заговаривать с тобой о Бургосе. Прости, что это меня подкосило. Теперь я стала особенно чувствительной, потому что я беременна.
Он уставился на нее, от растерянности открыв рот. Потом расхохотался громовым, оглушительным, счастливым смехом.
— Да это же великолепно! — воскликнул он. — Поистине я баловень счастья.
Он, топоча, приплясывая, бегал по комнате, потом схватил Ракель в объятия, неистово стиснул ее.
— Хорошо, что я не в доспехах, — сказал он, — иначе я бы изранил тебе грудь, бедняжечка.
А про себя думал: «И на такую пленительную женщину я накричал, как неотесанный мужлан! И когда говорил, ведь сам знал, что говорю неправду. Разве можно её покинуть!»
Вслух он повторил то же самое. А потом прижимал её к себе, успокаивал, убеждал, мешая кастильский и арабский языки, страстно обвинял себя, бормотал какой-то несвязный влюбленный вздор.
Он думал: «Поистине я любимейшее дитя у господа. Он играет со мной, как отец со своим малым сыном. Дразнит меня с притворной злобой, чтобы еще щедрее одарить потом. В тот раз он навязал мне на шею дурацкую войну и тут же поразил в сердце дядюшку Альфонсо Раймундеса. Он отнял у меня маленького Энрике, а теперь дарует мне сына от самой любимой, единственно любимой женщины. Я считал, что это кара, а это оказалось милостью».
Он с трудом удержался, чтобы и это не сказать Ракели. У короля могут быть такие радостно-горделивые мысли, но высказывать их вслух не смеет даже король.
Он вспомнил обещание, данное донье Леонор. Оно больше не действительно. При таких обстоятельствах оно не действительно. Раз Ракель должна родить ему сына, значит, господь прощает и одобряет его. Он думал: «Король обязан прислушиваться только к своему внутреннему голосу. Богу не угодно, чтобы я сейчас уже выступал в поход. Внутренний голос меня не обманывает. И я не выступлю в поход, а буду дожидаться, пока господь укажет мне урочное время.».
Он думал: «Разве можно её покинуть! Да лучше претерпеть тысячу смертей!». Он был несказанно счастлив. И несказанно счастлива была она.
И жизнь в Галиане потекла по-прежнему.
Чрезвычайный посол, кардинал Грегорио ди Сант'Анджело, вручил королю собственноручное послание святого отца. Папа спешил напомнить своему возлюбленному сыну, королю Кастильскому, о решении Латеранского собора, по которому христианским государям воспрещалось давать евреям власть над христианами, и с отеческой строгостью требовал, чтобы он наконец-то отрешил от должности этого пресловутого Ибн Эзру. Если бы сатана, пользуясь происками министров-евреев, так писал папа, не разжигал рознь между августейшими испанскими монархами, они давно бы уже были единодушны.
Альфонсо заподозрил, что письмо было составлено стараниями доньи Леонор или архиепископа. Но он даже не рассердился — настолько чувствовал свою независимость и превосходство. Им руководил внутренний голос, повелевавший: «Не отсылай еврея прочь. Во всяком случае, не теперь, а потом, когда-нибудь.».
Он почтительнейше ответил кардиналу, что ему очень тягостно столько лет пользоваться услугами советчика, неугодного святому отцу. Однако лишь с помощью Ион Эзры ему удастся снарядить крестовый поход против неверных. Как только он одержит победу и, значит, не будет более нуждаться в советах сметливого еврея, он, как и подобает преданному сыну, не замедлит исполнить волю святого отца.
Кардинал Грегорио, известный златоуст, произнес проповедь в соборе. Много веков тому назад, так вещал он, задолго до других христиан обитатели Иберийского полуострова подняли меч против неверных. Но сатана посеял рознь между монархами, и они обратили мечи свои друг против друга, а не против общего врага всех христиан. Ныне же всемогущий растопил их сердца, и вся Испания с неостывшим жаром готова возобновить свою давнюю борьбу против неверных. Такова воля Божия!
После смерти маленького инфанта кастильцы только и мечтали, чтобы началась долгожданная война, а потому проповедь кардинала проняла их до самого нутра. Вездесущая, возвышающаяся над мирской юдолью церковь с самого детства внедряла в них сознание, что земное бытие преходяще; теперь же здешний мир окончательно потерял для них ценность ввиду очевидной близости вечного блаженства. Ибо всякий, кто идет воевать, получает отпущение грехов; он либо воротится домой непорочным, как дитя, либо, если ему суждено пленение или смерть, его ждет верная награда на небесах. Даже те, кому довелось вкусить изобилие и покой последних счастливых лет, не печалились об утрате этих благ, а лишь старались приукрасить неизбежное, рисуя себе более возвышенные радости, которые ждут их в раю.
Мужчины, способные носить оружие, спешили избавиться от собственности; мелкие усадьбы, мастерские и тому подобное имущество можно было приобрести задешево; зато возросло в цене все, что потребно для войны; у оружейных мастеров, торговцев кожами и торговцев ладанками отбою не было от заказов. Садовник Белардо извлек дедовский колет и шлем и смазал кожу маслом и жиром.
Архиепископ дон Мартин оживился, почуяв, что война по-настоящему недалека. Теперь у него всегда из-под духовного одеяния виднелись воинские доспехи. Он забыл свой гнев на Альфонсо и Галиану и не уставал славить господа, властной рукой обратившего грешника на стезю рыцарской добродетели.
Увидев, что его помощник Родриго не разделяет общего воодушевления, он принялся ласково увещевать каноника. Тот признался, что к радости по поводу благочестивого предприятия у него, точно капля крови в кубке вина, все время примешивается мысль о множестве жертв, которых война потребует теперь и от Испании. На то люди и созданы господом, возразил дон Мартин, чтобы участвовать в бранных схватках и битвах.
— Хотя господь и даровал им власть над всеми животными, однако же волей Божией им сперва надлежало завоевать эту власть, — заключил он. — Уж не думаешь ли ты, что дикий бык без борьбы впрягся в плуг? Без сомнения, господь и ныне благоволит к тому рыцарю, который одолевает быка. Сознаюсь тебе без стыда, из всех истин, изреченных Спасителем, мне всего дороже та, которую передает Матфей: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч». — Он повторил этот стих в подлиннике. — «Alia machairan!»[11] — торжествующе выкликнул он, и греческие слова Евангелия прозвучали куда звонче и воинственнее, чем привычные латинские sed gladium.[12]
Это громогласное напоминание о мече до самого сердца пронзило дона Родриго, уязвленного еще и тем, что не бог весть какой ученый архиепископ из всею греческого подлинника запомнил только эти слова. Дону Родриго ничего бы не стоило противопоставить этому единственному евангельскому речению, где восхваляется война, множество других, благостно и величаво славящих мир.
Однако господу угодно было облечь сердце архиепископа в железную броню, так что он внимал лишь тому, чему ему хотелось внять. Каноник сокрушенно промолчал.
А дон Мартин продолжал его вразумлять:
— Когда настанет весна, цари выступят в поход — так написано во второй книге пророка Самуила. Так тому и назначено быть. Прочти это место, возлюбленный брат! Прочти также о войнах властителей в Книге Судей и в Книгах Царств! Не гляди так жалостно и лучше почитай, как господь сам помогает воевать и как война объединяет верующих, объединяет государство и истребляет язычников. Правоверные иудеи древности шли на битву с воинственными возгласами и повергали врагов! У них был свой боевой клич: хедад. Я услышал его от тебя. Хедад, — как это звучно и хорошо! Но наш deus vult, так хочет бог, тоже звучит неплохо, он помогает крушить направо и налево. Подхвати его, возлюбленный брат! Откинь от себя уныние и возвеселись сердцем!
Но каноник упорствовал в своем скорбном молчании, и тогда архиепископ закончил доверительным тоном:
— И не забудь, что война принесет нам и другое благо — она наконец прекратит мирное прозябание нашего отважного Альфонсо и вырвет его из этого смрадного болота.
Однако дон Родриго видел все отнюдь не в таком радужном свете, как архиепископ. Где-то в глубине души у него копошилось сомнение, действительно ли кончина ребенка пробудила короля от греховного сна, а также затаенный страх, что Альфонсо и впредь будет лавировать между грехом и долгом.
Взяв себя в руки, он сурово приступил к своему духовному сыну.
— Ты, сын мой и государь, отправляешься в поход, но помни одно, предостерег он, — мало крушить мечом, отпущение грехов даже и на войне будет даровано тебе, только если ты покаешься чистосердечно, и не на словах, а на деле. Выслушай меня, сын мой Альфонсо, и перестань лгать, как ты до сих пор лгал себе, мне и всем остальным людям. Ты сам знаешь, что нам не суждено спасти душу этой женщины. Усердным молениям твоих любящих уст не удалось тронуть её сердце, да и моим словам господь не дал убедительной силы. Тебе не дозволено жить с ней. Вырви грех из своего сердца. Не иди на войну во грехе. Господь умертвил твоего сына, как он умертвил сына фараонова, когда фараон не захотел отречься от греха. Внемли предостережению. Расстанься с этой женщиной. Сейчас же. Немедленно.