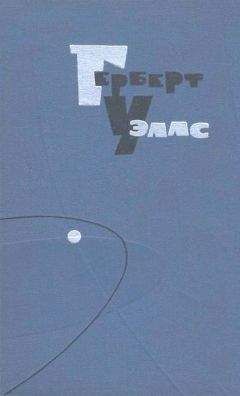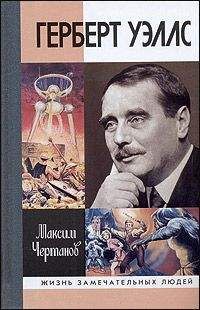Герберт Уэллс - Жена сэра Айзека Хармана
Сьюзен, видимо, была предубеждена против таких затей.
— Да, — сказала она, выслушав объяснения и просмотрев планы. — Но где же дом?
— Это и есть дом.
— На мой взгляд, это казарма, — заявила Сьюзен. — Разве у дома могут быть стены такого цвета? И ни занавесок, ни пологов над кроватями, ни ширмы, девушке негде даже фотографию или картинку повесить. Как же ей чувствовать себя дома в такой чужой комнате?
— Они смогут вешать фотографии, — сказала леди Харман, мысленно делая себе заметку.
— И потом, конечно, там будет распорядок.
— Нельзя же совсем без распорядка.
— Дома, если только это настоящий дом, не бывает никакого распорядка и, с вашего позволения, штрафов.
— Нет, штрафов не будет, — поспешно сказала леди Харман. — Об этом я позабочусь.
— Но ведь надо же как-то заставить их соблюдать распорядок, раз уж он будет, — сказала Сьюзен. — А когда столько народу и нет отца с матерью и настоящей семьи, то, по-моему, без этого самого распорядка никак не обойтись.
Леди Харман рассказала ей о преимуществах общежитии.
— Я не спорю, это дешево, и для здоровья полезно, и жить веселей, — сказала Сьюзен. — Если не будет слишком больших строгостей, я думаю, многие девушки туда с охотой пойдут, но в лучшем случае это будет заведение, леди Харман. Да, заведение, уж можете мне поверить.
Она держала в руке план фасада общежития в Блумсбери и раздумывала.
— Конечно, что до меня, то я предпочла бы жить с добрыми, работящими христианами где угодно, лишь бы не в таком месте. Ведь главное — быть свободной, знать, что ты сама себе хозяйка. Пускай даже не будет водопровода и придется таскать воду ведрами… Если бы девушкам платили как следует, не было бы никакой нужды в таких домах, ровным счетом никакой. Это все бедность виновата. И потом, если они уйдут туда, многие хозяйки потеряют жильцов. Подумайте, если по всему городу понастроят таких домов, получится та же история, что с мелкими пекарями, бакалейщиками и всеми остальными. Да ведь в Лондоне тысячи людей кое-как сводят концы с концами только потому, что сдают две, а то и три комнаты, иногда с пансионом, и всякому ясно, что им тогда придется снизить цены или потерять жильцов. Для них никто не построит общежития.
— Вы правы, — сказала леди Харман. — О них я не подумала.
— У очень многих людей нет ничего, кроме жалкого скарба да тех денег, что им платят за квартиру, они связаны по рукам и ногам. Взять хоть тетю Ханну, сестру моего отца. Живет в подвале, работает, как проклятая, и мне не раз приходилось давать ей взаймы десять шиллингов, чтобы она могла уплатить за аренду, хотя ей на хлеб не хватает. От таких общежитии ей добра ждать нечего.
Леди Харман бессмысленно смотрела на план.
— Да, пожалуй, — сказала она.
— И потом, если у вас там будет хорошо и весело, многие девушки станут удирать из дому. Такие, как наша Элис, на все готовы, лишь бы иметь немного лишних денег на тряпки, они ни о чем не думают, им бы только болтать, смеяться да гулять. Для Элис лучше жилья и не сыщешь: приходи, когда душе угодно, и уходи, когда хочешь, никто и не спросит. Уж она-то пойдет туда жить, а мама, которая ее вырастила, лишится десяти шиллингов в неделю, что она приносит домой. И таких, как Элис, много. Она совсем не плохая, нет, она хорошая, добрая девушка, надо правду сказать, но она пустая, что ни говори, пустая, ни о чем думать не хочет, кроме удовольствий. И мне иногда кажется, что это ни капельки не лучше, чем быть плохой, какая бы от этого другим ни была польза, я ей так прямо и говорю. Но она, конечно, не знала того, что выпало на мою долю, и поэтому думает иначе…
Вот что сказала Сьюзен.
Разговор с ней смутил леди Харман, и она, вспомнив о мистере Брамли, попросила у него совета, который не заставил себя ждать. Она пригласила его к чаю в такой день, когда сэр Айзек заведомо должен был уехать, показала ему проекты и рассказала о том, как их предполагается осуществить. А потом с очаровательной верой в его знания и способности изложила свои сомнения и страхи. Что он думает об этих общежитиях? И о том, что сказала Сьюзен Бэрнет про разорение квартирных хозяек?
— Я думала, что наша кампания — хорошее дело, — сказала она. — Но можно ли считать ее хорошим делом?
Мистер Брамли долго хмыкал, чувствуя себя обманщиком. Некоторое время он с глубокомысленным видом уклонялся от ответа, а потом вдруг отбросил притворство и признался, что понимает во всем этом не больше ее.
— Но я вижу, что вопрос этот сложный и… и к тому же небезынтересный. Вы мне позволите им заняться? Надеюсь, я смогу кое-что выяснить…
Он ушел, преисполненный горячей решимости.
Джорджина, едва ли не единственная из тех, кому леди Харман призналась в своих сомнениях, отнеслась к делу без всяких опасений.
— Ты думаешь сделать из этих общежитии бог весть что, Элла, — сказала она, — а на деле получится именно то, чего нам не хватало.
— Что же именно? — спросила миссис Собридж, склонившаяся над своим вышиванием.
— Цитадель для суфражистского гарнизона, — сказала Джорджина звенящим голосом, с блеском Великой Одержимости в глазах. — Женский Форт Шаброль[40].
Несколько месяцев мистер Брамли ни о чем не задумывался, а иногда и вовсе махал на все рукой, твердо придерживаясь решения бескорыстно любить леди Харман. Духовно он был обездолен, лишившись своих старых моральных основ и привычных убеждений, а новые его взгляды были весьма сумбурны. Он усиленно работал над романом, в котором совершенно отходил от прежней традиции книг о Юфимии. Но чем больше он работал, тем яснее понимал, что, если взглянуть всерьез, роман получается пустяковый. Перечитав написанное, он с удивлением обнаружил грубость там, где хотел быть искренним, и риторику там, где замысел требовал страсти. Что с ним такое? Мистер Брамли был тронут, когда леди Харман обратилась к нему, но, не сумев разрешить ее затруднения, понял всю поверхностность своих знаний, которую до тех пор скрывал даже от самого себя под маской насмешливого скептицизма. Он ушел от леди Харман, решившись во что бы то ни стало справиться с проблемой общежитии, и не без удовольствия отложил в сторону перемаранную рукопись своего нового злополучного романа.
Чем больше он думал о характере исследования, к которому собирался приступить, тем больше увлекался. Именно такого реального дела он давно жаждал. У него даже появились сомнения, станет ли он впредь вообще заниматься прежней профессией — писать романы, по крайней мере такие, как раньше. Сочинять всякие истории, чтобы избавить процветающих пожилых буржуа от неприятной необходимости думать, — разве это дело для уважающего себя человека! Стивенсон, изучив до самых глубин это позорное ремесло, тоже понял это и уподобился fille de joie[41], а Хаггард, писатель той же школы и эпохи, достигнув вершины успеха, забросил кровавые драмы и стал добросовестно исследовать сельское хозяйство. Каждый успешный шаг требовал от мистера Брамли все больше тяжкого труда и изобретательности. Постепенно у него накапливались факты и неожиданные открытия… Леди Харман увидит, что благодушие, которое он всегда на себя напускал, не мешает ему быть проницательным и делать обобщения… Она просила его об этом. А что если он справится с этим так, что станет ей необходимым? Если он справится с блеском?
Он взялся за дело, и читателю, который знает, что в характере его было нечто от хамелеона, нетрудно понять, что во время работы настроение его то и дело менялось. Иногда он работал с бескорыстным увлечением, а иногда его подстегивала мысль, что наконец-то он может помочь ей в трудную минуту жизни и это будет способствовать их сближению. А вскоре у него появился третий стимул: он обнаружил, что сама по себе задача — определить значение этих общежитии — очень заманчива для умного и образованного человека.
Потому что прежде, чем решить вопрос о современном наемном служащем, умный человек должен рассмотреть весь огромный процесс реорганизации общества, которая началась с развитием фабричного труда и ростом больших городов и даже теперь едва ли настолько завершена, чтобы можно было определить ее общий характер. Сначала мистер Брамли не понимал важности этого явления, а когда понял, теории начали расти у него в голове, как грибы, и он весь дрожал от внутреннего волнения. Очень довольный собой, он изложил их леди Харман, и она была поражена, потому что никто еще не объяснял ей все это так просто и убедительно. Мир торговли, наемного труда и конкуренции, который до тех пор представлялся ей таким сложным и таинственным, вдруг как будто вошел в систему, показался единым процессом.
— Так вот, — сказал мистер Брамли (в тот день они встретились в Кенсингтонском парке и сидели рядышком на зеленых стульях перед застывшими контурами «Физической энергии»[42]), — если вы не против, я прочитаю вам нечто вроде лекции и постараюсь говорить как можно проще. Еще со времени открытия Америки человечество начало осваивать пустующие территории; с тех пор и примерно до 1870 года длился период быстрого роста народонаселения, что было вызвано новыми жизненными возможностями и изобилием во всех областях. За это время, то есть, грубо говоря, за четыреста лет, произошло бурное развитие семейных связей; почти каждый считал нужным жениться и иметь большую семью, холостяков стало мало, многочисленные монастыри почти исчезли, словно их унесло наводнение, и даже священники, нарушая обет безбрачия, женились и имели детей. Естественные факторы, сдерживавшие рост населения — голод и чума, — были побеждены благодаря новым знаниям и научным открытиям; вследствие всего этого количество людей на земле увеличилось в три или четыре раза. Семья по-прежнему играла основную роль в человеческой жизни и благодаря процветанию росла; возвращение к семье означало возврат к общественному укладу времен раннего варварства, и, естественно, современные человеческие представления начиная с пятнадцатого века не знают иной формы. Вот как я себе это представляю, леди Харман. Поколение наших дедов в начале девятнадцатого века руководствовалось двумя созидательными идеями: семьи и прогресса, — не понимая, что тот самый прогресс, который открыл новые возможности для семьи и возродил древний завет плодиться и размножаться, может снова лишить ее этих возможностей, провозгласив, что на земле больше нет места. Именно это и происходит теперь. Возможности исчерпаны. Простой люд больше не может плодиться такими огромными роями, и за последние полтора столетия все решительней вступают в игру силы общественной организации, находя новые массовые пути производства, новые, более широкие связи между людьми, которые все больше и больше разрушают обособленность семьи и, вероятно, в конце концов разрушив ее совсем, придут ей на смену. Вот какие выводы получились у меня на основе исторических данных.