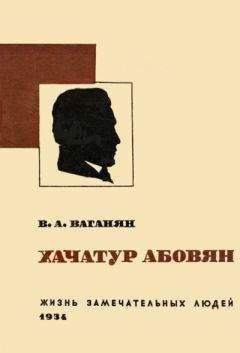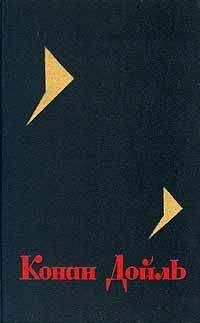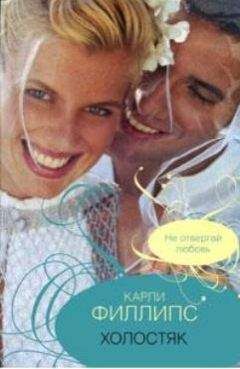Хачатур Абовян - Раны Армении
Слыша его печали полное баяти, видя жалобный плач его и слезы, и стар и млад готовы были жизнью пожертвовать ради него.
Когда девушки, по несколько вместе, гуляли по склону горы, рвали цветы, украшали себе грудь и голову, сердце у него разрывалось, что нет здесь с ними его Назлу.
А вот у Мусы, у юного Мусы не было ни горюющей о нем Назлу, ни отца, томящегося в темнице[169], — была у него только молодая мать, собиравшаяся не сегодня-завтра подарить ему еще одну сестренку или братца.
Ростом он был с чинару, над губами уже обозначились усики. Когда темные кудри его развевались вокруг нежного лица, казалось, что это ангел машет крыльями.
Ему уже исполнилось шестнадцать лет, но он еще ни на чье лицо не косился.
Правда, иной раз, увидав покрывало или белый лачак, он терял голову, сердце его воспламенялось, глаза застилались слезою, ему хотелось броситься куда-нибудь в горы и ущелья, скрыться, исчезнуть, — но все проходило через несколько дней: глаза не видели — так и сердце успокаивалось.
Порою ему казалось, что его тянет куда-то наверх.
Веял ветер, распускались деревья, журчала вода и словно некий невидимый голос говорил ему:
— Спи, Муса-джан, я смежу тебе веки, во сне буду разговаривать с тобою, а когда ты проснешься, — исчезну. Время еще не приспело тебе найти свою суженую. Что тебе на роду написано, то и будет.
Когда он пробуждался, ему казалось, — ангелы вот-вот отлетели от него. Он не знал, что это любовь, что готова она уже потихоньку поселиться в его сердце.
Однажды, когда он спал таким образом под деревом, увидел он во сне, будто принесли ему чашу вина, подали и какое-то ангелоподобное существо, осенив лицо крыльями, тихонько промолвило:
— Муса-джан! Или испей эту чашу, или убей меня. Жизнь моя в твоих руках. Отца и матери нет у меня, а попала в когти к неверному. Наше кочевье — на карсской горе. Если в груди у тебя есть сердце, если любишь ты бога, приди, освободи меня. Не освободишь — в жизни радости не увидишь. Муса-джан, я ухожу, ты знаешь. Приди! Двадцать дней меня мучают, чтобы я приняла магометову веру. Но я не принимаю, я жду тебя. Мне во сне сказано было, что ты — мой избавитель.
Когда он открыл глаза, ему показалось, что все вокруг — деревья, трава, цветы — изливают дарующие бессмертье благоуханья. Луч солнца скользнул по его лицу и тихонько скрылся за горою. Он хотел что-то сказать — дыханье не вылетало из губ его, хотел встать — ноги и руки были бессильны. Когда же до слуха его долетели звуки дудки и свирели, он опять закрыл глаза.
Ах, если бы в тот миг юность не столь неодолимо им овладела, тогда бы любовь не так могуче его одурманила!
Тьма спустилась па землю. Стало так черно, что ткни человеку пальцем в глаз, — не заметишь.
Тучи подняли головы и оторвались стопами от горных вершин. Мгла и туман застлали горы и ущелья. Казалось, тысячи драконов, разинув пасти, идут их поглотить.
Как начали здесь и там сверкать молнии, горцы сразу смекнули, чем это пахнет. Погнали скот и овец в загон, сами взяли ружья и выпустили собак — они знали, что такая ночь — самое горячее время у всяких воров да разбойников и у диких зверей.
Как начали тучи палить из пушек, все тут побежали — давай бог ноги, все глаза позакрыли. Женщин и детей загнали в шатры. Свечи и всякий иной огонь потушили, — чтоб глаз хоть что-нибудь мог различить. Все взяли по куску хлеба, но и то сунули за кушак, не стали есть, — ждали, чем все это кончится, когда снова светло станет.
Пошел дождь с градом, небо и земля запылали. Молния так хлестала по маковкам гор, что они, казалось, готовы были на тысячу гязов уйти в глубь земную. Когда разверзала туча пушечное свое жерло, земля готова была на тысячу кусков разбиться и дух испустить. Огня не было, ничего нельзя было разглядеть, за бурей ничего не было слышно.
Агаси надрывался крича, — звал Мусу, но — да унесет вода его мать! — где он был? Мог ли он услышать? И что с ним такое стряслось, чтобы так вырваться и убежать?
Товарищи Агаси бросились в горы, в разные стороны, с опасностью для жизни, в ста местах стреляли из ружья, — но каков был их страх и ужас, когда они узнали, что вдобавок он ушел еще и без ружья! Агаси так и обмер.
Гроза прошла, молнии перестали сверкать, но все же была темнота. Где ж разыскать его?
Пока рассвело, прошло столько времени, что, как говорится, змеи родить успели.
Но кто смог бы передать, что пришлось им пережить, когда они увидели, что юный Муса плавает в крови, а трава и кусты кругом все повыворочены.
Огромных размеров гиена сидела у него на груди, левая рука Мусы была у нее в пасти. Они едва не вонзили шашки себе в грудь.
Когда они закричали и ахнули, юный богатырь открыл глаза и, увидев товарищей, мотнул головой, улыбнулся и сказал:
— Молодцы! Bo-время подоспели. Подойдите, вытащите-ка мою руку: нож больно глубоко взошел, и рука моя с ним, не могу сам вытащить, сил больше нет.
Чьи глаза увидят такую радость, какова была радость его товарищей? Они тотчас бросились, отшвырнули гиену, но когда Муса вызволил руку, оказалось, что она чуть ли не наполовину разжевана.
Целый час не отрывался Агаси от груди друга, — словно с того света к жизни вернулся.
И горцы, увидев храбрость молодого удальца, дивились и целую неделю потом об этом только и толковали…
Однако сон продолжал бежать от глаз Мусы, покой — из его сердца. Всходило солнце, а для него день угасал.
Угасал день, и возобновлялись его терзания.
Горы и ущелья превратились для него в ад. Днем и ночью, — ел ли он хлеб, пил ли он воду, видел ли свет или сны ночные, все сливалось в дивном образе, звавшем его.
Деревья ли шелестели, журчала ли вода, дул ли ветер, веяло ли прохладой, — он ничего не примечал, ничего не видел, кроме небесного лика своей возлюбленной.
Богатырь-Агаси, не допустивший бы и в смертный свой час, чтобы малейший волосок с места сдвинулся у кого-либо из товарищей, давно заметил, в каком беспокойстве душа Мусы; он давно приметил, что сердце, внимание, мысли покинули его любимца, что юноша не в себе, — но о причинах не догадывался. Знал он одно, что до той поры берег друга, как зеницу ока. А что теперь так сжигало, так испепеляло его, — понять не мог.
Он видел, что юный Муса, слыша девичий голос или видя образ девичий, терял голову, сходил с ума, — но думал, что разгорается в нем тот обычный первый огонь, что жжет и воспаляет сердце каждого молодого человека, едва он осмыслит свой возраст, когда кровь начинает кипеть, а горы и ущелья становятся для человека сазом и кяманчой, с ума его сводят, или же шашкой и ножом — и вонзаются ему в сердце.
Сколько раз бросался он на шею своему другу, плакал и умолял поведать ему свое горе, но, кроме слез, ничего не видел, ничего не слыхал, кроме плача.
Сколько раз сердце Мусы подступало к устам, и собирался он поведать другу свои горести, но язык его сох, немел, краска заливала лицо, и он не знал, что ответить: дрожа, указывал он лишь на горы и на деревья.
Товарищи тоже не знали, что делать. Едва улучал он минуту, как, забывая про хлеб и воду, уходил куда-то, пропадал, и нужно было обойти все горы и ущелья вокруг, чтобы где-нибудь найти его задремавшим.
Один раз вот так же искали Мусу, как вдруг из-под скалы донесся голос, от которого каждый бы содрогнулся. Ветер относил голос в ущелье, а камни вторили словам.
НА МОТИВ БАЯТИАх, ангелом ты для меня была, —
На земле родилась иль с неба сошла?
Ты всю мою жизнь, увы, унесла,
Приди же, святая, и душу возьми!
Ах, душу возьми!
Умру — не узнаешь, где я лежу,
Не увидишь, как в сердце я меч вонжу.
Истерзал мне грудь безжалостный крюк,
Куда мне бежать от слез и от мук?
Ах, от мук?
Моя ночь — как смерть. Тоскую без сна.
Как темная ночь, моя жизнь черна.
Ах, ради чего же мне жизнь дана,
Коль жертвой не лягу у ног твоих?
У ног твоих!..
Попробую ль туче тоску сказать, —
Растает — не сможет тебе передать.
Доверю ли слезы горам-скалам,
А слезы — в сердце льются опять.
Ах, льются опять!
Я сердца покой не могу сберечь,
Ты душу и тело мне хочешь сжечь,
О, если ты ангел, — то где ж твой меч?
Рази и огнем мне темя осыпь!
Ах, осыпь!..
К тебе я приду, к ногам припаду,
У тебя в груди свое сердце найду,
Но где обрету твою красоту?
Смогу ль исполнить слово свое?
Ах, слово свое!
Коль мне не помогут мои друзья,
У тебя отвернутся они от меня,
По горам пущусь, дорогая моя,
Поспею на помощь, полно тужить!
Ах, полно тужить!
Разок увидал бы твой лик святой,
Поднесла бы мне чашу своей рукой.
Я с горы спущусь, надышусь тобой,
Тебе пожертвую головой
Ах, головой!
Так сказал достойный жалости юноша и преклонил голову на камень.