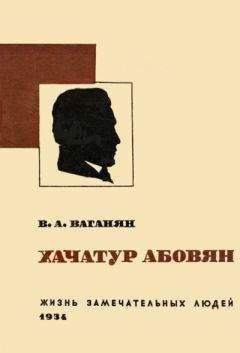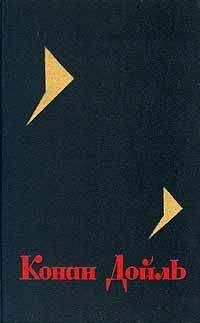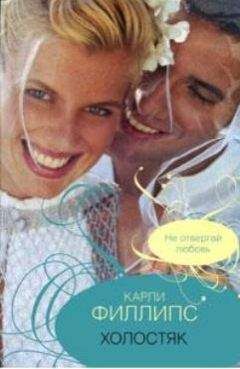Хачатур Абовян - Раны Армении
Ах, сколько мук она вынесла — и хоть бы когда-нибудь я голос ее слышала, хоть бы слово когда-нибудь она молвила, чтоб горе не так давило мне сердце, так не сушило, не испепеляло меня.
Когда она ахала, ее горячее дыхание касалось моего лица. Когда она плакала, эти слезы, ручьем струящиеся, только я одна и видела. Даже глаз она не открывала, головы не подымала, чтоб только нам в лицо друг другу не посмотреть, глазами не встретиться; не хотела, чтоб сердце мое унялось, чтобы плач ее успокоился, чтобы глаза свои я ей предоставила, чтобы сколько есть у нее слез, она мне бы их отдала, не проливала бы их на землю; чтобы сердце свое я вынула и ей отдала, а она бы мне — все свое горе, чтобы я целехоньким передала его сегодня тебе, как залог, что всегда, лишь взглянув на него, ты будешь думать о том, что твоя бедная, беспомощная Назлу от любви к тебе, от тоски по тебе сошла в могилу, что ты будешь помнить ее и если даже ангела встретишь, не прельстишься им, не положишь другой головы на подушку, где твоя родная Назлу дух испустила; не подставишь другой эту грудь, твою Назлу измучившую; не будешь говорить другой ласковых слов этим языком своим, в огонь превратившимся и спалившим твою Назлу.
Нет, Агаси-джан, если я мать тебе, — исполни, что говорю: каждый раз, как увидишь могилу Назлу, каждый раз, пробудившись и обратив взор к небу, или же зайдя в сад, поливая цветы, срывая плоды, — открывай грудь свою, поминай ее имя, плачь о ней! Нет деревца, не видавшего ее слез, нет камня, не коснувшегося ее груди, нет такого цветка и куста, что не гладил бы ей голову, не видел ее плача и вместе с ней не плакал, не обдавался чадом ее сердца, не завял бы, не засох, чтоб только горя ее не видеть и не слышать ее голоса.
Если сосал ты мою грудь и на руках моих вырос, — покуда есть дыхание в устах твоих, пока носят тебя твои ноги, приходи, о приходи сюда, Агаси-джан, стань на эту святую землю, меня тоже похорони, — а там бог с тобою!
Пока я жива, лучше шашку вонжу себе в сердце, лучше глаза себе выколю, но другую невестку я в дом не приму, для другой матерью не стану. Не хочу, не хочу, чтобы снова меня поздравляли. Она была светом очей моих, радостью моей жизни — и вот пропала, погибла.
Если нога другой ступит на землю, где она ступала, я не выдержу. Если и мир после нее в алмаз превратится — кто станет на него смотреть, кто на него польстится?
Когда умирала она, я так ее и напутствовала! — Иди, мучительница ты моя. Пока я дышу, Агаси твой красной повязкою не повяжется, руки хной не покрасит — давно его хну я по ветру пустила. На одну подушку клали вы головы — и почивать должны в одной земле.
И меня положите с собою, чтоб я и в могиле видела вашу любовь и на небе чувствовала ее, благословляла бы вас и своими детьми называла, чтобы взятый у бога залог таким же ему возвратила.
Я стою на краю могилы, я зову тебя, Агаси-джан. Я раскрыла объятия свои, по тебе тоскую, сердечный ты мой. Сама я землицы в горсть набрала — чтоб себе на лицо посыпать, родной ты мой, сама и саван сшила, — чтоб одели им меня, — Назлу и умереть за тебя рада! — и ладан, и свечи купила, и за требу деньги своими руками отдала, незабвенный ты мой. Служба, обедня, священник, чаша — мне уж не забота, голубь ты мой.
Тысячу раз кланялась я в ноги ангелу своему, просила его отойти — чтобы раз еще услышать твой голос этими оглохшими ушами, полюбоваться на красу твою этими глазами померкшими, еще хоть раз руку твою святую прижать к этой груди окаменелой. Раз лишь еще приникнуть к родному лицу твоему лицом своим посеревшим, душу эту сожженную, в пепел обратившуюся, всю истерзанную, и дыхание свое тебе отдать, Агаси-джан.
Неужто сердце твое так омертвело, одеревенело, что ты уже не любишь меня? Ах, что мне делать? Что сказать? Сердце мое через край переполнено, голоса моего не хватает, — ты далеко. Кто поможет нашему горю?..»
Несчастная женщина уже не в силах была сдержать себя. Свекровь подоспела, когда она лежала уже без движения, словно одеревеневшая. Взяла ее за руку, вся дрожащая, отвела домой и попросила деверя, чтобы тот перед отъездом дал записать какому-нибудь боголюбивому человеку и взял с собою вот это баяти, которое Назлу сама сочинила и каждый день пела, заливаясь слезами:
ПЛАЧ НАЗЛУНастала весна. На лугах — трава.
По горам, по долам цветут дерева.
Любовью к розе сыт соловей, —
Я одна томлюсь по любви твоей,—
Ах, томлюсь!
Увижу ли камень — ты предо мной,
На траву ль ступлю — я полна тобой.
Твой сладкий вкус — в воде ключевой.
Грустит обо мне цветок полевой,—
Ах, грустит!
Свет очей моих от плача погас,
От вздохов и охов я извелась,
Кому я скажу, как горю всяк час?
А скажешь кому, — огорчишь как раз, —
Ах, огорчишь!
Не хочу я к небу взор обращать,
Луну или солнце на помощь звать,
Где сердце у них, чтоб горе понять?
Ты, солнце мое, возвратись ко мне, —
Ах, возвратись!
Болит ли так же сердце твое?
Еще ли ты помнишь имя мое?
Иль только камни слышат меня,
Но, ах, не могут утешить меня? —
Ах, утешить!
На лицо твое хоть раз поглядеть!
За шею обнять, вдвоем посидеть!
Потом отдала б я душу свою, —
Мне сладко у ног твоих умереть,—
Ах, умереть!
Тебя я напрасно ищу, мой рай,
Назлу свою горем не убивай,
Поспеши ты к ней, раздружи с тоской,
Схорони, а душу возьми с собой!
Ах, с собой!
О мой боголюбивый читатель, — камень и тот треснул бы от этих слов, не то, что человек, да и Агаси, сердце которого истерлось в порошок. Но глубока душа человека, а жила тонка — чем сильнее натягиваешь, тем тоньше становится — да вдруг и оборвется. В хорошие дни человек забывается. Заботы только треплют душу, но не скоро ее отнимают.
Видя как Агаси мучается и страдает, удалые памбакские парни-армяне сговорились между собою отправиться тайком за его женою и матерью, забрать их и доставить к нему, но умные люди отсоветовали, — бедного отца его, старика, в тюрьме разрезали бы тогда на куски. Они не один раз замечали, что Агаси что-то задумал, — видимо, хочет поехать на помощь отцу и матери, — следили за ним и возвращали обратно.
Так в страданиях провел он и эту зиму. Наконец наступила весна, все — и тюрки и армяне — отправились на кочевья. Агаси тоже ушел с ними.
Разбили шатры у горных потоков, на поросших цветами лугах и пустили скотину пастись в этот рай бессмертный.
В утренний час, когда, бывало, встаешь ото сна, облака и туман с тысячи горных вершин, смешавшись друг с другом, поднимались к небу, и одежда, и лица покрывались росой и дождевыми каплями.
Женщины оставались при коровах и буйволицах, доили их, готовили масло и сыр, а мужчины пасли скот в горах либо возили шерсть и масло на базар, продавали там и покупали, что нужно для дома.
Были у женщин и другие дела. Днем они пряли, ткали ковры, паласы, шали, — весело и простодушно проводили время.
Тут, разумеется, нечего было молодицам и девушкам ежиться и прятаться, как дома, закрывать лицо. Все — как в одной семье, в какое кочевье ни зайдешь — всюду щеки пылают, как розы, всюду такие глаза, что с ума сведут человека! Но могли ли быть иными лица, иными души на таком воздухе, с такой водой, когда дышишь ароматом таких цветов и зелени?
Известное дело, молодые парни со всякими ворами да разбойниками частенько ходили охотиться, иной раз на неделю и того больше, и возвращались с убитой или пойманной дичью, — тогда в каждом шатре пир бывал не хуже свадьбы. Вот когда гость бывал кстати! По неделям, по месяцам не отпускали.
Журчанье ручьев, рокот воды, шелест деревьев, щебет птиц, свирель пастушеская, блеяние ягнят и овец, мычание стад как будто говорило каждому: если хочешь рая, оставайся тут, живи, как они живут, с простым сердцем, с чистыми помыслами.
Нельзя сказать, чтоб перемена места не оказала действия своего на нашего Агаси, — камень — и тот бы размяк, огонь — и тот бы погас, не то что его сердце. Но над головой Агаси еще кружил злой дух, — а он, бедный, и не знал того.
Часто, когда спускался он с гор на кочевья, на него засматривались тысячи глаз. Особенно, как узнали его историю, все хотели любоваться на него, не могли на него надышаться. Всякий, кому предлагал он цветок, со слезами на глазах готов был вместо руки протянуть ему сердце, в самую душу тот цветок заложить и вдыхать его благоухание.
Всякий, у кого был лакомый кусок, сберегал его для Агаси. Кто ставил перед ним сливки, кто яичницу, один — жареного барашка, другой — оленину. Многие, пригласив его в гости, резали барашка или даже целого барана, лишь бы ему угодить.
Слыша его печали полное баяти, видя жалобный плач его и слезы, и стар и млад готовы были жизнью пожертвовать ради него.