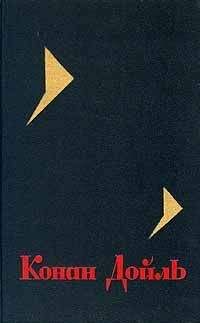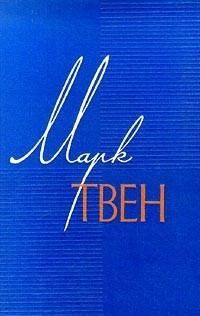Марк Твен - Том 9. По экватору. Таинственный незнакомец
Даже теперь, когда минул целый год, восторженное исступленно тех днем в Бомбее живет в моей душе и, я думаю, будет жить в пей всегда. Все тогда было для меня новым, каждая мелочь. И не надо было ждать утра, чтобы увидеть Индию, — она начиналась тут же в отеле. Коридоры и залы были полны коричневых людей в чалмах в фесках, в расшитых одеяниях, в шапках, босиком; кто опрометью куда-то бежит, кто сидит на корточках и отдыхает, кто оживленно разговаривает, кто молчит и словно грезит; в столовой за спинкой стула у каждого стоит местный слуга, одетый так, будто сошел со страниц арабских сказок.
Нам отвели комнату на верхнем этаже, окнами на улицу. Белый человек - коренастый немец — поднялся вместе с нами, прихватив с собой трех индийцев, чтобы разместить в номере наши вещи. Еще четырнадцать индийцев гуськом шли за первыми тремя, таща наш ручной багаж; каждый нес только один предмет.— не больше; иногда это был чемодан, иногда что-нибудь поменьше. Один дюжий индиец нес мое пальто, второй — зонтик, третий — ящик с сигарами, четвертый -- книжку, а последний носильщик в этой процессии тащил веер. Все это делалось очень серьезно и старательно. Никто, начиная с первого носильщика и кончая последним, и не подумал улыбнуться. Каждый подходил и спокойно, терпеливо ждал, пока кто-нибудь из нас не давал ему монетку, — тогда индиец почтительно кланялся, прикладывал пальцы ко лбу и удалялся. Это, по-видимому, мягкий, вежливый народ, в их поведении было что-то очень душевное и трогательное.
В номере была большая застекленная дверь, выходящая на балкон. Надо было то ли поплотнее закрыть ее, то ли протереть — и индиец опустился на колени и начал работать. Мне казалось, что он все делает как положено, но, по-видимому, это было не так, ибо коренастый немец скорчил недовольную мину и без всякого объяснения ударил его в челюсть, а уж потом сказал ему, в чем он провинился; Как ему только не стыдно делать такие вещи при нас! Индиец снес все совершенно покорно и ни словом, ни жестом не выдал своей обиды. Я не видел ничего подобного уже лет пятьдесят. Этот случай перенес меня в годы моего детства, и тут мне все стало ясно: ведь это же обычный способ показать рабу, что ты от него чего-то хочешь. Я вспомнил, что тогда мне это казалось и правильным и естественным; я привык к этому с молодых ногтей и не представлял себе, что где-то существуют иные отношения; в то же время я вспомнил, что такие покорно принимавшиеся зуботычины вызывали во мне жалость к жертве и чувство стыда за того, кто наносил удар. Мой отец был добрым и вежливым человеком, очень степенным, даже строгим, человеком щепетильной честности, неукоснительно справедливым и прямым, хотя он и не ходил в церковь, никогда не заговаривал о религии и не принимал никакого участия в благочестивых радостях своей пресвитерианской семьи и, по-видимому, ничуть от этого не страдал. Он наложил на меня свою карающую руку лишь дважды в жизни, да и то довольно легко; один paз зa то, что я ему солгал,— наказание очень удивило меня и открыло мне глаза: сколь доверчив был отец, — ибо лгал я ему тогда далеко не в первый раз. Он наказал меня всего дважды и никого другого из нашей семьи не коснулся пальцем, но он то и дело давал тычок-другой нашему безобидному мальчишке-невольнику Льюису, — и к тому же за самые пустячные упущения или простую неловкость. Мой отец с колыбели жил среди рабов, и затрещины, которыми он их награждал, объяснялись отнюдь не его характером, а правами времени. Когда мне было десять лет, я видел, как один человек в ярости швырнул железным бруском в невольника только за то, что тот что-то сделал недостаточно проворно, — словно это было преступление. Брусок попал рабу в голову, и тот упал наземь. Через час он умер. Я знал, что хозяин имел право убить своего невольника, если ему хотелось, и все же я чувствовал в этом что-то ужасно обидное и несправедливое, но почему — этого я тогда не смог бы объяснить. Никто в поселке не одобрил этого убийства, хотя, разумеется, вес помалкивали.
Удивительно, с каким могуществом мысль преодолевает время и пространство. Увиденная мною сцена на одну секунду перенесла меня в поселок в штате Миссури, на другую сторону земного шара, и я снова ясно увидел забытые картины пятидесятилетней давности — в ту секунду я видел только их и ничего более. В следующую секунду я оказался снова в Бомбее, и у стоящего на коленях индийца щека еще пылала от удара! Назад к детству — пятьдесят лет; снова к сегодняшнему дню — еще пятьдесят; полет, по дальности равный окружности Земли, — и все это в две секунды по часам!
Несколько индийцев — не помню, сколько именно — пошли и мою спальню, привели там все в порядок, наладили сетку от москитов, и я лег в постель, чтобы лелеять свой кашель. Было около девяти часов вечера. Но что такое?! Еще три часа не умолкали крики и завывания индийцев в вестибюле, мягкое шлепанье их проворных босых ног. Раздавались какие-то выкрики, с третьего этажа на первый летели громкие приказания, — шум не прекращался ни на миг. Можно было подумать, что происходит бунт, возмущение, революция. Потом донеслись новые звуки, они присоединились к прежним и время от времени как бы подчеркивали их — словно рушились крыши, разбивались окна, погибали люди; где-то пронзительно кричали вороны, хихикали, бранились, скрипуче пищали канарейки, бормотали обезьяны, кричали что-то богохульное попугаи, а время от времени я слышал дьявольский хохот и взрывы динамита. К полуночи все было кончено, я стойко выдержал все звуки, шумы и трески, какие есть на свете, и понял, что теперь уже ничто не может смутить мой покой — ни что-нибудь одно, ни все вместе. И тогда наступила тишина — глубокая, торжественная тишина... и длилась она до пяти часов утра.
Тут все началось снова. И кто бы, вы думали, начал? Птица птиц — индийская ворона. Позднее я познакомился с нею поближе и был прямо-таки очарован. Mнe кажется, что из вcex пернатых ей выпала самая суровая участь. И тем не менее это весьма жизнерадостная птица, весьма довольная собою. Ворона — это не плод беззаботного творчества, не результат какого-то внезапного созидательного порыва, — это поистине произведение искусства, а «искусство вечно»; ворона — продукт незапамятных времен, результат тщательных расчетов, — невозможно сотворить подобную птицу в одни сутки. Она перевоплощалась большее количество раз, чем Шива, и при каждом новом перевоплощении сохраняла что-то от прежнего и привносила это в свою телесную оболочку. В своем постепенном продвижении вперед, в своем величественном марше к конечному совершенству она бывала картежником, низким комедиантом, распутным священником, суетливой женщиной, мерзавцем, безбожником, лжецом, вором, шпионом, полицейским агентом, продажным политиканом, мошенником, профессиональным лицемером, радетелем мамоны, реформистом, лектором, адвокатом, заговорщиком, бунтарем, роялистом, демократом, проповедником хамства и непочтительности, самозванцем, пролазой, сплетником, язычником, неисправимым грешником. Странный, невероятный факт: при столь пагубном соединении столь неприглядных свойств ворона нe знает, что такое забота, печаль или угрызении совести; ее жизнь — это сплошное торжество, экстаз, истинное счастье, и она примет свою смерть без тени волнения, прекрасно зная, что в свое время воплотится в какое-то новое существо — ну хотя бы в писателя — и будет еще мудрее и счастливее, чем когда-либо прежде.
Когда она делает широкий шаг вперед, подпрыгивает несколько раз подряд в сторону, то и дело с хитрым и самодовольным видом поворачивая голову, она становится похожей на американского черного дрозда. Но это поразительное сходство тут же исчезает. Она гораздо крупнее дрозда, не столь изящна и нарядна, у нее нет такого красивого клюва; и, конечно, ее скромная черная одежда серо-ржавого оттенка куда беднее я бледнее великолепного блеска и металлической черноты дрозда, в чьем оперении переливаются и сверкают бронзовые сполохи. Американский дрозд — совершенный джентльмен как по манерам, так и по платью; мне кажется, он и не сварлив, за исключением тех случаев, когда вместе со своими родичами служит молебны или участвует в политических сходках на деревьях; а эта индийская жительница, прикидывающаяся квакершей, просто безобразница; если она не спит — она неизменно кричит, постоянно болтает, бранится, издевается, хохочет, визжит, ругается, находя для этого тысячи поводов. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы птица была так щедра на высказывания. Ничто не ускользает от ее глаза, она замечает буквально все, что происходит вокруг, и высказывает поэтому поводу свое мнение, проявляя пыл тем больший, чем меньше дело касается ее. И те это она делает отнюдь не в деликатных, а в самых запальчивых выражениях — запальчивых и подчас неприличных, — присутствие дам ее не стесняет. Любое мнение, которое высказывает ворона, не является плодом размышления, ибо она ни о чем никогда и не размышляет, она попросту кричит то, что придет в голову; нередко бывает, что она заговаривает совсем не о том, что требуется по ходу дела. Но уж такая у нее манера; главное — высказать свое мнение; если она на миг замолкнет, чтобы поразмыслить, то может упустить возможность высказаться.