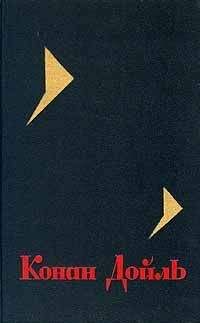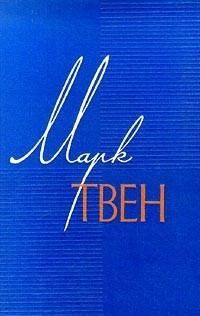Марк Твен - Том 9. По экватору. Таинственный незнакомец
Я словно сейчас вижу эту сверкающую панораму, это буйство ярчайших красок, эти несравненные оттенки, эти гибкие полуприкрытые человеческие тела, прекрасные коричневые лица, изящные, грациозные жесты, движения, позы — свободные, естественные, лишенные какой-либо скованности или стыдливости. И вот...
В эти сказочные видения, в эти райские краски вонзился резкий диссонанс. Из миссионерской школы вышло шестнадцать набожных девочек-христианок; это были чернокожие девочки, они шагали парами, все в европейском платье, — одетые так, как их одели бы в воскресный летний день в английской или американской деревне. Это миссионерское платье — оно было чудовищно! Уродливое, варварское, лишенное вкуса и изящества, отталкивающее, как погребальный саван. Я посмотрел на одеяние моих спутниц — их платья оказались увеличенными копиями отвратительных одежд несчастных девочек, — и мне стало неловко идти рядом с ними по улице. Но когда я посмотрел на свой собственный костюм — мне стало неловко за самого себя.
И тем не менее мы вынуждены мириться с нашей одеждой, с такой, как она есть, — она не зря существует. Наша одежда разоблачает нас — она показывает то, что, казалось бы, должна скрывать. Наша одежда — это символ, знак лицемерия, знак подавленного тщеславия; мы делаем вид, что презираем пышные краски, грацию, гармонию и формы, — и мы надеваем наши одежды, чтобы распространить эту ложь и подкрепить ее. Но нам не обмануть своих соседей; а когда мы попадаем на Цейлон, нам становится ясно, что мы не сумели обмануть даже самих себя. Оказывается, мы любим яркие краски и изящные костюмы; даже на родине мы в любую погоду выскакиваем из дома, чтобы взглянуть на красочное шествие, — и завидуем нарядным одеждам. Мы идем в театр, чтобы посмотреть на наряды, и горюем, что сами не можем так одеться. Мы идем на придворный бал, если выпадет такой случай, и с удовольствием разглядываем великолепные мундиры и сверкающие ордена. Когда мы получаем разрешение посетить королевскую гостиную, мы запираемся у себя и тайком часами красуемся в шикарных придворных костюмах, любуясь на себя в зеркало и чувствуя себя бесконечно счастливыми; каждый чиновник при губернаторе в нашей демократической Америке проделывает то же самое со своим новым пышным мундиром, и если за ним не подсматривают, он, пожалуй, с удовольствием сфотографируется в этом мундире. Когда я гляжу на лакея в доме лорд-мэра, я чувствую себя обиженным судьбой. Да, наши одежды лживы, в такими они были все последнее столетие. Они неискренни, они — безобразное и подобающее выражение нашего внутреннего притворства и упадка морали.
Коричневый мальчишка, которого я последним видел на запруженных народом улицах Коломбо, прикрывал свою наготу лишь шнурком, перепоясывавшим его талию, но в моем представлении откровенная честность его костюма куда приятнее, чем те вопиющие по безвкусице одеяния, в которые были облачены бедные девочки из воскресной школы.
Глава II. БОМБЕЙ — ОЖИВШАЯ СТРАНИЦА ИЗ «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ»Богатому можно иметь любые принципы.
Новый календарь Простофили Вильсона
14-го, вечер. — Отплыли на «Розетте». Это старая калоша, которую надо бы застраховать и утопить. Здесь, точно так же как и на «Океане», все переодеваются к обеду, это стало чем-то вроде торжественного ритуала. Чудесные, изысканные наряды являют собой такой явный контраст с убогой бедностью окружающего!.. Если вам понадобится кружочек лимона к дневному чаю, вы должны специально его заказать. Лимоны стоят 14 центов бочонок.
18 января. — Вот мы идем наконец по Аравийскому морю. Приближаемся к Бомбею, сегодня вечером должны быть там.
20 января. — Бомбей! Колдовской, удивительный, чарующий город, будто снова читаешь «Тысячу и одну ночь»! Это большой город, в нем около миллиона жителей. Всё индийцы, прослойка белых очень невелика и ничуть не влияет на общий вид темнокожей толпы. Здесь теперь зима, но погода дивная — чистейший июнь; листва на деревьях свежа и пышна, как в июне. Напротив отеля — вереница благородных, тенистых, большущих деревьев, под ними сидят живописные группы индийцев, мужчин и женщин; тут же факир в чалме со своими змеями и фокусами; целый день течет поток экипажей и людей в самых разнообразных одеждах. Кажется, никогда не устанешь смотреть на это вечно подвижное, сверкающее красками зрелище... На огромном базаре, в густой толпе, в давке, наблюдать местных жителей восхитительно: море ярких тюрбанов и одеяний; причудливая индийская архитектура, чудесно гармонирующая с окружающим ее пейзажем. К вечеру новое зрелище — поездка вдоль берега моря, к мысу Малабар, где живет лорд Сандхерст, губернатор Бомбея. Сначала едешь мимо дворцов парсов; когда их минуешь, то тебе покажется, будто двинулся в путь весь город; кучер и три лакея в каретах богатых англичан и знатных индийцев одеты в ошеломляющие восточные ливреи; причем две таких фигуры в чалмах, неподвижные, как статуи, стоят на запятках. Иногда даже в наемных каретах видишь такое же изобилие лакеев; правда, они располагаются там чуть в ином порядке — один правит, второй сидит с ним рядом и наблюдает за первым, третий стоит на запятках и кричит — кричит, когда кто-нибудь есть на пути и когда никого нет, — для практики. Все это создает впечатление беспрерывного шума, оживленного движения и суматохи.
В районе Скандального мыса — меткое название! — где есть удобные скалы, чтобы посидеть, и открывается с одной стороны прекрасный вид на море, а с другой двигаются сплошной тесной вереницей пышные экипажи, встречается множество хорошо одетых парсианских женщин; они словно охапки ярких цветов, — чарующее зрелище! Люди идут, идут по дороге, идут поодиночке, парами, группами, толпами; видишь здесь и рабочих и работниц, но одеты они совсем не так, как у нас. Мужчина-рабочий — это обычно прекрасно сложенный атлет, на нем одна набедренная повязка; кожа у него темно-коричневая, атласистая, мускулы под нею вздуваются, словно шары. Женщина — изящное, стройное существо, прямая, как пальма, и все ее одеяние состоит из одного куска яркой ткани, которой она окутывает себе голову и тело до колен и которая плотно ее облегает. Икры и ступни ног у нее голые, голые и руки, только на лодыжках и запястьях множество разнообразных серебряных колец. Одна ноздря украшена кольцом, по нескольку блестящих колец и на пальцах ног. Когда она раздевается перед сном то, я думаю, она снимает свои украшения. Если она снимет с себя что-нибудь еще, она может простудиться. Как правило, на голове у нее большой сияющий, великолепной формы, медный кувшин для воды; она поддерживает его своею изогнутой голой рукою. Она так стройна, шагает с такой легкостью, грацией и достоинством, ее изогнутая рука и медный кувшин так живописны — право, нашей простой женщине до нее далеко!
Всюду краски, чарующие, колдовские краски, — везде, кругом, вдоль всего раскинувшегося дугой жемчужного залива, вплоть до губернаторского дома, у дверей которого торжественно стоят на страже местные дюжие чапраси в огромных чалмах и огненно-красных одеждах, — они так дополняют общую великолепную картину, завершая ее с театральной пышностью. Хотел бы я быть чапраси!
Это истинная Индия: страна романтики и мечты; страна сказочного богатства и сказочной нищеты, роскоши и лохмотьев, дворцов и жалких лачуг, голода, эпидемий, джиннов, великанов и Аладдиновых ламп, тигров и слонов, кобр и джунглей; страна, где существует сотня различных народов и сотня различных языков, тысяча религий и два миллиона богов; колыбель человеческой расы, земля, где зародилась человеческая речь; страна — мать истории, бабка легенды, прабабка преданий, чей вчерашний день не моложе самой глубокой древности остальных народов, — единственная страна под солнцем, которая неизменно и всегда интересна для любого иноземного принца и иноземного землепашца, для изысканно образованного и для невежественного, для мудреца и глупца, для богача и нищего, угнетенного и свободного; единственная страна, которую хотят увидеть все люди, а увидев ее хотя бы мельком, уже никогда не забудут, не променяют на все зрелища земного шара.
Даже теперь, когда минул целый год, восторженное исступленно тех днем в Бомбее живет в моей душе и, я думаю, будет жить в пей всегда. Все тогда было для меня новым, каждая мелочь. И не надо было ждать утра, чтобы увидеть Индию, — она начиналась тут же в отеле. Коридоры и залы были полны коричневых людей в чалмах в фесках, в расшитых одеяниях, в шапках, босиком; кто опрометью куда-то бежит, кто сидит на корточках и отдыхает, кто оживленно разговаривает, кто молчит и словно грезит; в столовой за спинкой стула у каждого стоит местный слуга, одетый так, будто сошел со страниц арабских сказок.
Нам отвели комнату на верхнем этаже, окнами на улицу. Белый человек - коренастый немец — поднялся вместе с нами, прихватив с собой трех индийцев, чтобы разместить в номере наши вещи. Еще четырнадцать индийцев гуськом шли за первыми тремя, таща наш ручной багаж; каждый нес только один предмет.— не больше; иногда это был чемодан, иногда что-нибудь поменьше. Один дюжий индиец нес мое пальто, второй — зонтик, третий — ящик с сигарами, четвертый -- книжку, а последний носильщик в этой процессии тащил веер. Все это делалось очень серьезно и старательно. Никто, начиная с первого носильщика и кончая последним, и не подумал улыбнуться. Каждый подходил и спокойно, терпеливо ждал, пока кто-нибудь из нас не давал ему монетку, — тогда индиец почтительно кланялся, прикладывал пальцы ко лбу и удалялся. Это, по-видимому, мягкий, вежливый народ, в их поведении было что-то очень душевное и трогательное.