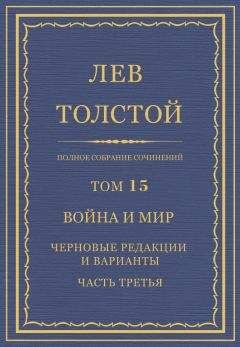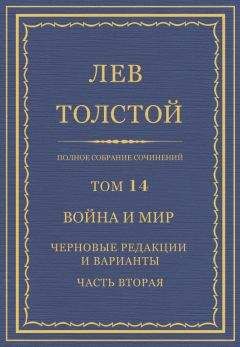Кальман Миксат - Странный брак
Старик встретил его, надувшись, как индюк:
— Опять наделал глупостей? Почему ты не выбросил эту женщину? Теперь можешь вернуться в свой бозошский замок, если тебе по душе детский плач или если ты хочешь поцеловать мадемуазель Бутлер, которой от роду один день. Нынче утром наш Будаи привез эту весть.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Все, что было потом, — бесконечные мучения и борьба.
Небо нахмурилось уже с утра. Солнце, еще совсем недавно весело шагавшее в своей пурпурной одежде по свежей росе, скрылось за клочьями туч, и вот уже не видишь его света, не ощущаешь тепла и лишь знаешь, что оно прячется там за облаками. Ждешь, вот-вот оно выглянет и согреет, однако набежавшее облако снова скрывает его. И какое маленькое облачко! Кажется, дунь — и следа от него не останется.
Вот вкратце и вся эта печальная история.
Едва рассеются тучи, появится надежда — глядь, надвигается — новое облако. И опять все сначала, пока не наступит вечер, а за ним и ночь.
Счастлив тот писатель, который в своем повествовании может нарисовать такое небо, какое пожелает. Но я пишу летопись. Граф Янош Бутлер ходил здесь, под этим небом, страдал среди нас; еще на каждом шагу можно повстречать людей, которые в свое время здоровались с ним за руку, глядели в его печальное лицо…
Слушание дела было назначено судом каноников на четвертое октября, однако заседание не состоялось, потому что у председательствующего архиепископа заболел живот. Говорят, он поел каких-то плохих грибов. Каноники, испугавшись, что архиепископа отравили, отложили дело. Бедный Перевицкий в ярости зубами скрежетал:
— Нами все было подготовлено! Все пошло бы как по маслу!
Заседание перенесли на январь.
Однако зима в тот год оказалась слишком суровой.
История приписывает ей две странные особенности: во-первых, в Токае дважды праздновали сюрет,[42] так как в начале октября, когда урожай винограда еще не был собран, склоны Хедьальи покрыл глубокий снег, стаявший лишь в марте, и виноград собирали уже весной следующего года, а осенью снимали второй урожай. Такова первая особенность.
Вторая особенность, прославившая эту зиму, известна всему миру: в России была разгромлена армия Наполеона. Ее помог разгромить великий русский полководец Декабрь. Остатки ее были уничтожены суровыми морозами.
Впрочем, история умалчивает еще об одном примечательном обстоятельстве — факт этот отражен только в нашей хронике, — а именно, что в Эгере тоже была суровая зима, отправившая на тот свет чуть ли не всех стариков в городе. Ввиду этого обстоятельства архиепископ, имевший обыкновение каждую пасху приглашать к своему столу старцев на так называемый "белый обед", не нашел в городе достаточного количества убеленных сединами людей, и по сему случаю их пришлось собирать по соседним деревням.
Да, страшная была зима! Она и среди каноников скосила сразу троих, в том числе и его преподобие Йожефа Яблонци, генерального аудитора. Как назло, все трое оказались из числа сторонников Бутлера. В особенности тяжелой потерей была смерть Яблонци: он являлся вдохновителем той части духовенства, которая стояла за расторжение брака. Он, бывало, доказывал, что тот, кто вынимает занозу из ноги и излечивает ногу, совершает богоугодное дело. Тот же, кто загоняет занозу поглубже, лишь бы ее не было видно, — не только не вылечивает ноги, но способствует заболеванию всего тела и поступается своей совестью.
Господин Перевицкий узнал о смерти троих каноников; утром Нового года. Он как раз собирался со своими родственницами в церковь и раскаленными щипцами гофрировал себе манишку. Пробежав письмо, адвокат воскликнул: "Обманули, ограбили, бегут с моими тысячами!"
И вдруг он схватился за сердце, выронил щипцы и, испустив такой крик, словно гнался за кем-то, замертво рухнул на пол. Должно быть, придя в волнение, он не удержался и бросился вдогонку за тремя отправившимися на тот свет канониками. Едва ли кто мог теперь позавидовать святым отцам, потому что, если уж Перевицкий задумал, он непременно доберется до них и возьмет свое, в какой бы из трех частей загробного мира они ни находились!
Однако таким легкомысленным поступком он испортил Бутлеру все дело. В руках у Перевицкого были сосредоточены все нити: он с большим старанием и искусством воздвигнул грандиозное здание процесса, сгруппировав все аргументы и разработав план наступления; он создал стратегию и выработал необходимую тактику; ему были известны все рычаги, с помощью которых можно было воздействовать на отдельных членов суда и свидетелей; он знал, где что нужно повернуть, какую кнопку нажать. Колесо остановилось — и огромный часовой механизм больше не двигался.
Неожиданно процесс взялся вести один унгварский адвокат, по имени Михай Сюч. Но так как не оставалось времени просмотреть все дело, ознакомиться с документами и фактами, то теперь уж Бутлеры сами были вынуждены обратиться с просьбой отложить заседание. Снова пришлось ждать до лета.;
Все это время Бутлер играл в прятки е Марией Дёри, которая объехала одно за другим все имения графа. Однажды она настигла его в Пардани, привезя с собой запеленатую крошку Марию. Бутлер сидел под липами во дворе и играл с любимой собакой, когда увидел, что во двор въезжает его бозошский экипаж.
Одетая в траурное платье, Мария легко соскочила с экипажа, взяла у няни ребенка и бросилась на колени перед Бутлером прямо на гравий двора.
— О сударь, — умоляюще проговорила она дрожащим голосом, — простите нас!
Ребенок заплакал. Говорят, что мать ущипнула его, как, согласно легенде, ущипнула Мария-Терезия своего маленького Иосифа в Пожони.[43]
Граф холодно отвернулся от нее.
— Я вас не знаю, но полагаю, что вы не в своем уме.
С этими словами он направился к конюшне, где приказал запрячь лошадей, и через четверть часа умчался в свой вукицкий охотничий замок. Садясь в экипаж, он с горьким юмором сказал управляющему парданьским имением Ференцу Ногалу:
— А все-таки хорошо, когда у человека столько замков. Всегда можно иметь под рукой чистую смену белья.
В этой одной фразе лучше, чем в фолиантах бумаги, исписанных стрекулистами, выразилось глубокое отвращение, которое он испытывал к этой женщине, связанной с ним брачными узами.
Следующим летом суд каноников приступил наконец к слушанию дела.
Дни стояли жаркие, прямо-таки тропически знойные, — возможно, потому, что зима была столь длинной и суровой и что, как считал Иштван Фаи, ни теплу, ни холоду некуда деться — рано или поздно, но они пожалуют.
И все же, несмотря на такую адскую жару, процесс вызвал в городе огромный интерес. На улицах перед дворцом архиепископа собирались толпы народа, чтобы поглазеть на съезжавшихся участников процесса.
Тех героических женщин, которые в свое время изгнали из этого города турок, давно уже нет.[44] Нынешние женщины отличаются лишь любопытством. Их можно было увидеть в каждом окне, а те, которым не хватило подоконников, высыпали на улицу, подставляя себя безжалостным солнечным лучам. Словом, улица была до того забита людьми, что для поддержания порядка были вызваны конные жандармы.
Первой, на четверке лошадей с бубенцами, приехала Мария Дёри. Она была красива и стройна, на ней было черное платье, а лицо скрывала темная вуаль, сквозь которую, как два агата, смело сверкали большие глаза.
Все участвующие в процессе на стороне Дёри еще накануне прибыли в Эгер и разместились в различных гостиницах. Из-за большого стечения народа, запрудившего сегодня улицы, Марии Дёри-Бутлер пришлось до самого здания архиепископского дворца ехать в экипаже. Рядом с Марией, надвинув белую соломенную шляпу на глаза, сидел старый Дёри. С прошлого года он отпустил седую бороду, местами желтоватую, как оперение канарейки.
Толпа стояла в глубоком молчании, как вдруг какой-то кожевник-подмастерье воскликнул:
— А ведь молодка-то ничего себе! На него зашикали.
Кто-то выкрикнул:
— Виват Пирошке Хорват! Сотни голосов подхватили:
— Да здравствует Пирошка! Пирошка!
— Бре-ке-ке! — прошипел старик, кусая бороду. — Эта чернь осмеливается издеваться над тобой. Посмейся же им в глаза!
— Молчи, отец, молчи! Я и без того готова сквозь землю провалиться!..
Экипаж остановился перед дворцом архиепископа, где происходило заседание суда каноников. Мария вышла из экипажа, слегка приподняв подол черной юбки, так что можно было разглядеть ее маленькие черные туфельки и даже часть стройной ножки в ослепительно белом чулке.
Бородатый студент-юрист, прислонившийся к воротам архиепископского дворца, с восхищением воскликнул:
— Чего же еще нужно графу, если такой красавицы ему мало?!