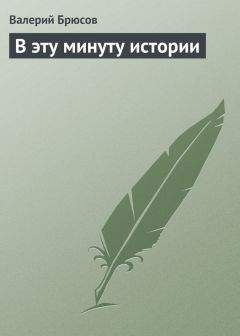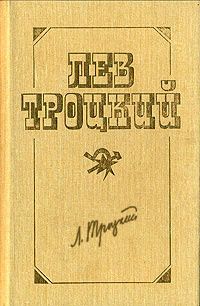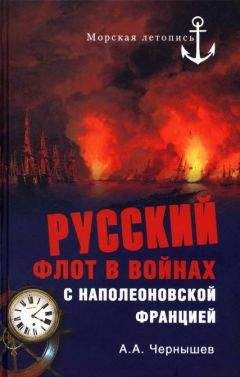Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
Сегодня Эмиль ожидал его непременно, так как Родериху пришлось дать торжественное обещанье провести с ним вечер, чтобы узнать то, что угнетало и тревожило его задумчивого друга уже в течение многих недель. Пока что Эмиль записал следующие стихи:
Как жизнь весной мила, приятна,
Когда под соловьиным пеньем
Цветы и листья с упоеньем
Дрожат и шепчутся невнятно.
Как хороши при лунном свете
Вечерних ветерков порханья,
Когда на крыльях лип дыханья
Они резвятся точно дети.
Как сладостны нам пышность роз,
Когда в полях все расцветает,
Любовь из сотен роз сияет,
Из ночи звездной, полной грез.
Но мне милей, приятней, слаже
Свечи мельканье в келье скромной,
Лишь вспыхнет там огонь укромный,
Я пред окном стою на страже.
Слежу, как косы расплетает
Она рукою белоснежной,
Одежд касается небрежно,
Венками кудри украшает.
Как лютню со стены возьмет,
И звуки тихие проснутся,
Под нежным пальцем засмеются
И ускоряют свой полет.
Им шлет она вдогонку пенье
Шутливо убегает звук,
И в сердце прячется мне вдруг
И там уж песня чрез мгновенье.
О злые! дайте вольным быть.
Они ж, замкнувшись в сердце, шепчут:
«Твое страданье будет вечным,
Узнай, что значит полюбить».
Эмиль нетерпеливо поднялся. Темнело, и Родерих все не шел, а он хотел открыть ему свою любовь к незнакомке, жившей напротив, любовь, не дававшую ему спать по ночам ж удерживавшую его по целым дням дома. Но вот на лестнице раздались шаги, дверь отворилась, и в нее вошли без стука две пестрые маски с отталкивающими рожами; одна из них — турок, одетый в красный и голубой шелк, другая — испанец, бледно-желтый и красноватый, с множеством перьев, развевавшихся на шляпе. Когда Эмиль стал терять терпение, Родерих сбросил маску, показал свое хорошо знакомое, смеющееся лицо и сказал:
— Э, дорогой мой, что за угрюмая мина! В карнавальное время и такой вид? Мы с любезнейшим нашим молодым офицером пришли за тобой, сегодня большой бал в маскарадном зале; и раз уж я знаю, что ты дал зарок не выходить иначе, как в черном платье, которое носишь всегда, то иди с нами так, как ты есть, потому что уже довольно поздно.
Эмиль был разгневан и сказал:
— Как видно, ты по привычке совершенно забыл о нашем уговоре, очень сожалею (при этом он обратился к незнакомцу), что я ни в коем случае не могу вас сопровождать, мой друг слишком поспешил, давая согласие за меня, я вообще не могу уйти из дома, так как мне нужно поговорить с ним о важном деле.
Незнакомец, который был скромен и понял желание Эмиля, удалился, а Родерих совершенно равнодушно снова надел маску, стал перед зеркалом и сказал:
— Ну и мерзкий вид! Не правда ли? В сущности, это безвкусное, отвратительное изобретение.
— В этом не может быть сомнения, — возразил: Эмиль с большим неудовольствием. — Делать из себя карикатуру, одурманивать себя, — это как раз те развлечения, за которыми ты охотнее всего гонишься.
— Из-за того, что ты не любишь танцовать, — сказал тот, — и считаешь танцы зловредной выдумкой, так в другие не должны веселиться? Как это досадно, когда человек весь состоит из причуд.
— Конечно, — возразил разгневанный друг, — и у меня достаточно случаев наблюдать это в тебе; я полагал, что, согласно нашему уговору, ты подаришь этот вечер мне, но…
— Но сейчас ведь карнавал, — продолжал тот, — и все мои знакомые и несколько дам ожидают меня на сегодняшнем большом балу. Подумай только, мой дорогой, ведь это у тебя настоящая болезнь, что подобные вещи вызывают в тебе столь незаслуженное отвращение.
Эмиль сказал:
— Кого из нас двоих назвать больным, не стану разбирать; твое непостижимое легкомыслие, твоя жажда рассеяться, твоя погоня за развлечениями, которые не заполняют твоего сердца, — все это мне, по крайней мере, не представляется душевным здоровьем; в известных случаях ты мог бы пойти навстречу моей слабости, если только это слабость, и нет ничего на свете, что до такой степени расстраивало бы меня, как бал с его ужаснейшей музыкой. Ведь кто-то сказал, что глухому, который не слышит музыки, танцующие должны показаться беснующимися, но я думаю, что сама по себе эта страшная музыка, это кружение немногих звуков, повторяющихся с отвратительной быстротой в тех проклятых мелодиях, которые непосредственно проникают в нашу память, я бы сказал даже, в нашу кровь, и от которых впоследствии долгое время нельзя отделаться, я думаю, что это и есть само безумие и бешенство, ибо, если танцы еще могут быть для меня более или менее выносимы, то только без музыки.
— Вот так парадокс! — ответил замаскированный. — Ты заходишь так далеко, что самое естественное, самое невинное и веселое на свете считаешь неестественным и даже страшным.
— Я ничего не могу поделать с моим чувством, — сказал Эмиль серьезно, — эти звуки с самого детства делали меня несчастным и часто доводили до отчаяния. В мире звуков они являются для меня наваждением, ларвами и фуриями и, подобно им, они носятся над моей головой и с отвратительным смехом скалят на меня зубы.
— Слабость нервов, — отвечал тот, — точно так же, как и твое преувеличенное отвращение к паукам и некоторым другим невинным гадам.
— Ты называешь их невинными, — проговорил расстроенный Эмиль, — потому что они тебе не противны. Но для того, у кого при виде их подымается в душе и пронизывает все его существо чувство тошноты и отвращения, такой же несказанный страх, как у меня, для того эти отвратительные чудовища, как, например, жабы и пауки, или еще это противнейшее из всех созданий — летучая мышь, далеко не безразличны и невинны, а, наоборот, существование их враждебно противостоит его собственному. Конечно, можно посмеяться над неверующими, чье воображение не мирится с привидениями, страшными личинами и теми порождениями ночи, которые мы видим во время болезни или которые рисуют нам творения Данте, ибо даже самая обыкновенная, ощутимая действительность пугает нас страшными, уродливыми образцами этих страхов. И действительно, разве мы могли бы любить красоту, не ужасаясь этим уродствам?
— Почему ужасаясь? — спросил Родерих. — Почему огромное царство вод и морей должно являть нам именно эти страхи, к которым твое представление привыкло, а не необыкновенные занимательные и любопытные маскарады, так что весь этот мир можно было бы рассматривать хотя бы как комический бальный зал? Но твои причуды идут еще дальше: ибо, так же, как ты любишь розу с каким-то идолопоклонством, с такой же страстностью ты ненавидишь другие цветы; но что же тебе сделала добрая, милая огненная лилия, как и многие другие создания лета? Так и некоторые цвета тебе противны, некоторые запахи и многие мысли, и ты ничего не делаешь для того, чтобы закалить себя в борьбе с ними, и мягко им поддаешься. В конце концов, собрание подобных странностей займет то место, которым должно было бы владеть твое «я».
Эмиль был разгневан до глубины души и ничего не ответил. Он уже отказался от намерения открыться ему; да и легкомысленный друг, казалось, не жаждал вовсе узнать тайну, о которой его меланхоличный товарищ возвестил ему с таким серьезным видом; он равнодушно сидел в кресле, играя своей маской, как вдруг вскричал:
— Будь добр, Эмиль, одолжи мне свой большой плащ.
— Зачем? — спросил тот.
— Я слышу там в церкви музыку, — ответил Родерих, — до сих пор я каждый вечер пропускал этот час, сегодня же он мне особенно удобен, под твоим плащом я могу скрыть это одеяние, также спрятать под ним маску и тюрбан, а когда музыка кончится, тотчас отправиться на бал.
Ворча, Эмиль достал из шкафа плащ, подал его вставшему с места другу и принудил себя иронически улыбнуться.
— Вот тебе мой турецкий кинжал, который я вчера купил, — сказал Родерих, закутываясь в плащ, — спрячь его; такой серьезный предмет не годится держать при себе для забавы, ибо никогда нельзя предвидеть, до каких бед он может довести в случае ссоры или других неприятных неожиданностей; завтра мы увидимся, будь здоров и весел.
Он не дождался ответа и быстро спустился вниз по лестнице.
Оставшись один, Эмиль постарался забыть свой гнев и найти в поведении друга смешные стороны. Он осмотрел блестящий, прекрасной работы кинжал и сказал:
— Каково должно быть человеку, который вонзает эту острую сталь в грудь противника, или, что еще ужаснее, ранит любимое существо? — Он спрятал кинжал, затем осторожно растворил ставни окна и выглянул в узкий переулок. Но нигде не мелькнуло огня, в доме насупротив было темно; дорогая ему девушка, жившая там и обычно занимавшаяся в это время домашними делами, очевидно ушла из дому. «Быть может, она даже на балу, — подумал Эмиль, — хоть это и не подходит к замкнутому образу ее жизни». Но вдруг показался свет, и девочка, с которой любимая им незнакомка не разлучалась и с которой она и днем и вечером все время возилась, пронесла через комнату свечу и притворила ставни. Осталась светлая щель, достаточная для того, чтобы Эмиль мог со своего места обозревать часть небольшой комнаты. Нередко счастливый стоял он там, далеко за полночь, как зачарованный, и следил за каждым выражением лица возлюбленной. Он с удовольствием наблюдал, как она учила девочку читать или давала ей уроки шитья и вязания. Из расспросов он узнал, что малютка — бедная сирота, которую прелестная девушка из жалости взяла к себе на воспитание. Друзья Эмиля не могли понять, почему он жил в этом узком переулке в неудобном доме, почему он так мало бывает в обществе и чем он занят. Без всякого дела в одиночестве он был счастлив, недовольный лишь собой и своим нелюдимым характером, тем, что не решался искать более близкого знакомства с этим прелестным существом, хотя она несколько раз в течение дня любезно раскланивалась и отвечала на его приветствия. Он не знал, что и она с таким же упоением следит за ним, и не подозревал, какие желания рождались в ее сердце, на какие трудности и на какие жертвы она чувствовала себя способной, лишь бы овладеть его любовью.
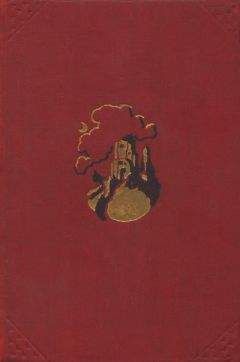
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)