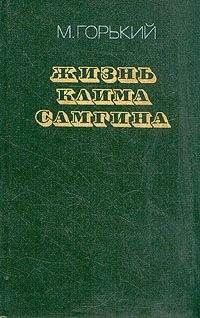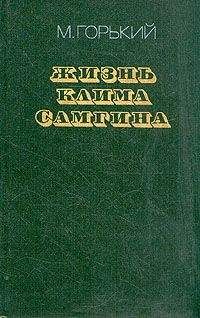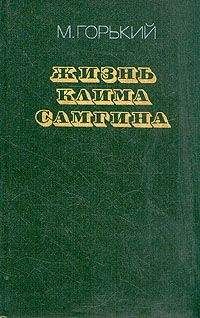Максим Горький - Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая
«Нет, все-таки она – милая. Даже недюжинная девушка. Как отнеслась бы к ней Лидия?»
Макаров молчал. Подъехали к вокзалу; Макаров, вспомнив что-то, заторопился, обнял Клима и ушел:
– Скоро увидимся!
Посмотря вслед ему, Клим прошел в буфет, сел в угол, к столу. До отхода поезда оставалось более часа. Думать о Макарове не хотелось; в конце концов он оставил впечатление человека полинявшего, а неумным он был всегда. Впечатление линяния, обесцвечивания вызывали у Клима все знакомые, он принимал это как признак своего духовного роста. Это впечатление подсказывала и укрепляла торопливость, с которой все стремились украсить себя павлиньими перьями от Ницше, от Маркса. Климу было досадно вспомнить, что Туробоев тоже видит эту торопливость и умеет высмеивать ее. Да, этот никуда не торопился и не линял. Он говорил, приподняв вышитые брови, поблескивая глазами:
– Я признаю вполне законным стремление каждого холостого человека поять в супругу себе ту или иную идейку и жить, до конца дней, в добром с нею согласии, но – лично я предпочитаю остаться холостым.
Манере Туробоева говорить Клим завидовал почти до ненависти к нему. Туробоев называл идеи «девицами духовного сословия», утверждал, что «гуманитарные идеи требуют чувства веры значительно больше, чем церковные, потому что гуманизм есть испорченная религия». Самгин огорчался: почему он не умеет так легко толковать прочитанные книги?
Казалось, что Туробоев присматривается к нему слишком внимательно, молча изучает, ловит на противоречиях. Однажды он заметил небрежно и глядя в лицо Клима наглыми глазами:
– На все вопросы, Самгин, есть только два ответа:
да и нет. Вы, кажется, хотите придумать третий? Это – желание большинства людей, но до сего дня никому еще не удавалось осуществить его.
Оскорбительно было слышать эти слова и неприятно сознавать, что Туробоев не глуп.
Звон колокольчика и крик швейцара, возвестив время отхода поезда, прервал думы Самгина о человеке, неприятном ему. Он оглянулся, в зале суетились пассажиры, толкая друг друга, стремясь к выходу на перрон.
Клим встал и спросил себя, пожав плечами:
«А на что мне Туробоев, Кутузов?»
ГЛАВА 4
Солнечный свет, просеянный сквозь кисею занавесок на окнах и этим смягченный, наполнял гостиную душистым теплом весеннего полудня. Окна открыты, но кисея не колебалась, листья цветов на подоконниках – неподвижны. Клим Самгин чувствовал, что он отвык от такой тишины и что она заставляет его как-то по-новому вслушиваться в слова матери.
– Ты очень, очень возмужал, – говорила Вера Петровна, кажется, уже третий раз. – У тебя даже глаза стали темнее.
Она встретила сына с радостью, неожиданной для него. Клим с детства привык к ее суховатой сдержанности, привык отвечать на сухость матери почтительным равнодушием, а теперь нужно было найти какой-то другой тон.
– Ну, а – Дмитрий? – спрашивала она. – Рабочий вопрос изучает? О, боже! Впрочем, я так и думала, что он займется чем-нибудь в этом роде. Тимофей Степанович убежден, что этот вопрос раздувается искусственно. Есть люди, которым кажется, что это Германия, опасаясь роста нашей промышленности, ввозит к нам рабочий социализм. Что говорит Дмитрий об отце? За эти восемь месяцев – нет, больше! – Иван Акимович не писал мне...
Она была одета парадно, как будто ожидала гостей или сама собралась в гости. Лиловое платье, туго обтягивая бюст и торс, придавало ее фигуре что-то напряженное и вызывающее. Она курила папиросу, это – новость. Когда она сказала: «Бог мой, как быстро летит время!» – в тоне ее слов Клим услышал жалобу, это было тоже не свойственно ей.
– Ты знаешь, – в посте я принуждена была съездить в Саратов, по делу дяди Якова; очень тяжелая поездка! Я там никого не знаю и попала в плен местным... радикалам, они много напортили мне. Мне ничего не удалось сделать, даже свидания не дали с Яковом Акимовичем. Сознаюсь, что я не очень настаивала на этом. Что могла бы я сказать ему?
Клим согласно наклонил голову:
– Да, с ним – трудно.
Словоохотливость матери несколько смущала его, но он воспользовался ею и спросил, где Лидия.
– Уехала в монастырь с Алиной Телепневой, к тетке ее, игуменье. Ты знаешь: она поняла, что у нее нет таланта для сцены. Это – хорошо. Но ей следует понять, что у нее вообще никаких талантов нет. Тогда она перестанет смотреть на себя как на что-то исключительное и, может быть, выучится... уважать людей.
Вера Петровна вздохнула, взглянув на часы, прислушиваясь к чему-то.
– Ты слышал, что Телепнева нашла богатого жениха?
– Я видел его в Москве.
– Да? Что это?
– Шут какой-то, – сказал Клим, пожимая плечами.
– Кажется – Тимофей Степанович пришел... Мать встала, пошла к двери, но дверь широко распахнулась, открытая властной рукою Варавки.
– Ага, юрист, приехал, здравствуй; ну-ко, покажись! Он тотчас наполнил комнату скрипом новых ботинок, треском передвигаемых кресел, а на улице зафыркала лошадь, закричали мальчишки и высоко взвился звонкий тенор:
– Вот лу-кулу-кулу-кулуку-у!
– Вера, – чаю, пожалуйста! В половине восьмого заседание. Субсидию тебе на школу город решил дать, слышишь?
Но ее уже не было в комнате. Варавка посмотрел на дверь и, встряхнув рукою бороду, грузно втиснулся в кресло.
– Ну, что, юрист, как? Судя по лицу – науки не плохо питали тебя. Рассказывай!
Но, заглянув медвежьими глазками в глаза Клима, он хлопнул его по колену и стал рассказывать сам:
– Газету хочу издавать, а? Газету, брат. Попробуем заменить кухонные сплетни организованным общественным мнением.
Через несколько минут, перекатив в столовую круглую тушу свою, он, быстро размешивая ложкой чай в стакане, кричал:
– Что такое для нас, русских, социальная эволюция? Это – процесс замены посконных штанов приличными брюками...
Климу показалось, что мать ухаживает за Варавкой с демонстративной покорностью, с обидой, которую она не может или не хочет скрыть. Пошумев полчаса, выпив три стакана чая, Варавка исчез, как исчезает со сцены театра, оживив пьесу, эпизодическое лицо.
– Изумительно много работает, – сказала мать, вздохнув. – Я почти не вижу его. Как всех культурных работников, его не любят.
Вера Петровна долго рассуждала о невежестве и тупой злобе купечества, о близорукости суждений интеллигенции, слушать ее было скучно, и казалось, что она старается оглушить себя. После того, как ушел Варавка, стало снова тихо и в доме и на улице, только сухой голос матери звучал, однообразно повышаясь, понижаясь. Клим был рад, когда она утомленно сказала:
– Я думаю, ты устал?
– Мне бы хотелось пройтись. А ты – не хочешь?
– О, нет, – сказала она, приглаживая пальцами или пытаясь спрятать седые волосы на висках.
Клим вышел на улицу, когда уже стемнело. Деревянные стены и заборы домов еще дышали теплом, но где-то слева всходила луна, и на серый булыжник мостовой ложились прохладные тени деревьев. Стекла окон смазаны желтым жиром огня, редкие звезды – тоже капельки жирного пота. Дома приплюснуты к земле, они, казалось, незаметно тают, растекаясь по улице тенями; от дома к дому темными ручьями текут заборы. В городском саду, по дорожке вокруг пруда, шагали медленно люди, над стеклянным кругом черной воды лениво плыли негромкие голоса. Клим вспомнил книги Роденбаха, Нехаеву; ей следовало бы жить вот здесь, в этой тишине, среди медлительных людей.
Он сел на скамью, под густой навес кустарника; аллея круто загибалась направо, за углом сидели какие-то люди, двое; один из них глуховато ворчал, другой шаркал палкой или подошвой сапога по неутоптанному, хрустящему щебню. Клим вслушался в монотонную воркотню и узнал давно знакомые мысли:
– Он, как Толстой, ищет веры, а не истины. Свободно мыслить о истине можно лишь тогда, когда мир опустошен: убери из него всё – все вещи, явления и все твои желания, кроме одного: познать мысль в ее сущности. Они оба мыслят о человеке, о боге, добре и зле, а это – лишь точки отправления на поиски - вечной, все решающей истины...
– У вас нет целкового? – спросил кисленький голос Дронова.
Клим Самгин встал, желая незаметно уйти, но заметил, по движению теней, что Дронов и Томилин тоже встали, идут в его сторону. Он сел, согнулся, пряча лицо.
– У меня нет целкового, – сказал Томилин тем же тоном, каким говорил о вечной истине.
Не поднимая головы, Клим посмотрел вслед им. На ногах Дронова старенькие сапоги с кривыми каблуками, на голове – зимняя шапка, а Томилин – в длинном, до пят, черном пальто, в шляпе с широкими полями. Клим усмехнулся, найдя, что костюм этот очень характерно подчеркивает странную фигуру провинциального мудреца. Чувствуя себя достаточно насыщенным его философией, он не ощутил желания посетить Томилина и с неудовольствием подумал о неизбежной встрече с Дроновым.