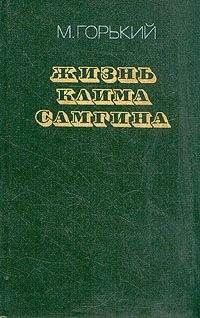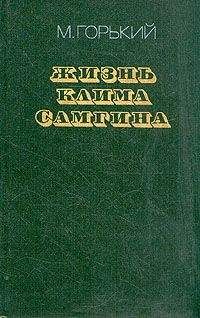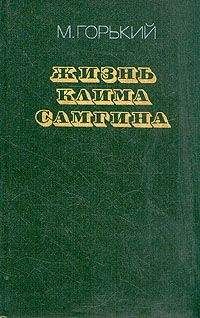Максим Горький - Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая
– Она решила, что не умеет притворяться.
– Верно: не умеет! – скрепил Лютов и так тряхнул головою, что фуражка сдвинулась на лоб.
– Телепнева тоже уходит из школы, она – замуж, вот – ее жених!
Лютов ткнул в грудь свою, против сердца, указательным пальцем и повертел им, точно штопором. Неуловимого цвета, но очень блестящие глаза его смотрели в лицо Клима неприятно щупающим взглядом; один глаз прятался в переносье, другой забегал под висок. Они оба усмешливо дрогнули, когда Клим сказал:
– Поздравляю. Замечательно красивая девушка.
– Умопомрачительно, – поправил Лютов, передвигая фуражку на затылок.
Макаров предложил позавтракать.
– Разумеется, – сказал Лютов, бесцеремонно подхватив Клима под руку. – Того ради и живет Москва, чтобы есть.
Через несколько минут они сидели в сумрачном, но уютном уголке маленького ресторана; Лютов молитвенно заказывал старику лакею:
– И дашь ты нам, отец, к водке ветчины вестфальской и луку испанского, нарезав оный толсто...
– Знаю-с.
– Не сомневаюсь, но – напоминаю...
– Приятно видеть тебя! – говорил Макаров, раскурив папиросу, дымно улыбаясь. – Странно, брат, что мы не переписываемся, а? Что же – марксист?
Он торопился ставить вопросы и этим еще больше возбуждал осторожность Самгина.
– Марксист? – воскликнул Лютов. – Таковых уважаю!
И, положив локти на стол, заговорил сиповатым голосом, изредка вывизгивая резкие ноты, – они заставили Клима вспомнить Дронова.
– Уважаю не как представитель класса, коему Карл Маркс исчерпывающе разъяснил динамику капитала, его культурную силу, а – как россиянин, искренно желающий: да погибнет всяческая канитель! Ибо в лице Марксовом имеем, наконец, вероучителя крепости девяностоградусной. Это – не наша, русская бражка, возбуждающая лирическую чесотку души, не варево князя Кропоткина, графа Толстого, полковника Лаврова и семинаристов, окрестившихся в социалисты, с которыми приятно поболтать, – нет! С Марксом – не поболтаешь! У нас ведь так:
полижут языками желчную печень его превосходительства Михаила Евграфовича Салтыкова, запьют горечь лампадным маслицем фабрики его сиятельства из Ясной Поляны и – весьма довольны! У нас, главное, было бы о чем поболтать, а жить всячески можно, хоть на кол посади – живут!
Лютов произнес речь легко, без пауз; по словам она должна бы звучать иронически или зло, но иронии и злобы Клим не уловил в ней. Это удивило его. Но еще более удивительно было то, что говорил человек совершенно трезвый. Присматриваясь к нему, Клим подумал:
«Не ошибся же я, – он был пьян за пять минут перед этой».
Он почувствовал в Лютове нечто фальшивое. Цвет его вывихнутых глаз был грязноватый; не мутное, а именно что-то грязненькое было в белках, как бы пропыленных изнутри темненькой пылью. Но в зрачках вспыхивали хитренькие искорки, возбуждавшие опасение.
«Глаза – это мозг, вывороченный наизнанку», – вспомнил Клим чьи-то слова.
Желтые волосы Лютова были причесаны а lа капуль, это так не шло к его длинному лицу, что казалось сделанным нарочно. Лицо требовало окладистой бороды, а Лютов брил щеки, отпуская остренькую бородку. Над нею вспухли негритянски толстые, гуттаперчевые губы, верхняя едва прикрыта редковолосыми усиками. Руки у него красные, жилистые, так же как шея, а на висках уже вздулись синеватые вены. Казалось, что и одет он с небрежностью нарочитой: под затасканным, расстегнутым сюртуком очень дорогого сукна – шелковая рубаха. Ему, должно быть, лет двадцать семь, даже тридцать, и он ничем не похож на студента. Макаров, вызывающе похорошевший, как будто нарочно, чтоб подчеркнуть себя, выбрал товарищем этого человека. Но – почему красавица Алина выбрала его?
Глотая рюмку за рюмкой водку, холодную до того, что от нее ныли зубы, закусывая толстыми ломтями лука, положенного на тоненькие листочки ветчины, Лютов спрашивал:
– Отреченную литературу, сиречь – апокрифы, уважаете?
– Это – ересиарх, – сказал Макаров, добродушно усмехаясь и глядя на Лютова ласково.
– «Откровение Адамово» – читали? Подняв руку с ножом в ней, он прочитал:
– «И рече диавол Адамови: моя есть земля, а божие – небеса; аще ли хочеши мой быти – делай землю! И сказа Адам: чья есть земля, того и аз и чада мои». Вот как-с! Вот он как формулирован, наш мужицкий, нутряной материализм!
В стремлении своем упрощать непонятное Клим Самгин через час убедил себя, что Лютов действительно человек жуликоватый и неудачно притворяется шутом. Все в нем было искусственно, во всем обнажалась деланность; особенно обличала это вычурная речь, насыщенная славянизмами, латинскими цитатами, злыми стихами Гейне, украшенная тем грубым юмором, которым щеголяют актеры провинциальных театров, рассказывая анекдоты в «дивертисментах».
Он, Лютов, снова казался пьяным. Протягивая Климу бокал шампанского, он, покраснев, кричал:
– Пожелайте мне ни пуха ни пера, и выпьем за здоровье велелепой девицы Алины Марковны!
Голос его звучал восторгом. Чокаясь с Лютовым, Макаров строго сказал:
– Ну, довольно тебе пить.
Лютов, залпом выпив вино, подмигнул Климу:
– Воспитывает. Я этого – достоин, ибо частенько пиан бываю и блудословлю плоти ради укрощения. Ада боюсь и сего, – он очертил в воздухе рукою полукруг, – и потустороннего. Страха ради иудейска с духовенством приятельствую. Эх, коллега! Покажу я вам одного диакона...
Закрыв глаза, Лютов покачал головою, потом вытянул из кармана брюк стальную цепочку для ключей, на конце ее болтались тяжелые золотые часы.
– Ух, мне пора! Костя, скажи, чтоб записали.
Он протянул руку Самгину:
– Рад знакомству. Много слышал хорошего. Не забывайте: Лютов, торговля пухом и пером...
– Не кокетничай, – посоветовал Макаров, а косоглазый крепко мял руку Самгина, говоря с усмешечкой на суздальском лице:
– Знаете, есть эдакие девицы с недостаточками; недостаточек никто бы и не заметил, но девица сама предваряет: смотрите, носик у меня не удался, но зато остальное...
Он тихонько оттолкнул Клима, пошел, задел ногою за ножку стула и, погрозив ему кулаком, исчез.
– Какой... чудак, – сказал Клим. Макаров задумчиво согласился:
– Да, чудаковат.
– Не понимаю Алину, – что ее заставило?.. Макаров дернул плечом и торопливо, как будто оправдываясь, заговорил:
– Нет, – что же? Ее красота требует достойной рамы. Володька – богат. Интересен. Добрый – до смешного. Кончил – юристом, теперь – на историко-филологическом. Впрочем, он – не учится, – влюблен, встревожен и вообще пошел вверх ногами.
Макаров зажег папиросу, дал спичке догореть до конца, а папиросу бросил на тарелку. Видно было, что он опьянел, на висках у него выступил пот. Клим сказал, что хочет посмотреть Москву.
– Едем на Воробьевы горы, – оживленно предложил Макаров.
Вышли из ресторана, взяли извозчика; глядя в его сутулую спину, туго обтянутую синим кафтаном, Макаров говорил:
– Москва несколько путает мозги. Я очарован, околдован ею и чувствую, что поглупел здесь. Ты не находишь этого? Ты – любезен.
Он снял фуражку, к виску его прилипла прядка волос, и только одна была неподвижна, а остальные вихры шевелились и дыбились. Клим вздохнул, – хорошо красив был Макаров. Это ему следовало бы жениться на Телепневой. Как глупо все. Сквозь оглушительный шум улицы Клим слышал:
– Фантастически талантливы люди здесь. Вероятно, вот такие жили в эпоху Возрождения. Не понимаю: где – святые, где – мошенники? Это смешано почти в каждом. И – множество юродствующих, а – чего ради? Чорт знает... Ты должен понять это...
Клим подозрительно, сбоку, заглянул в лицо товарища:
– Почему – я?
– Ты – философ, на все смотришь спокойно... «Как простодушен он», – подумал Клим. – Хорошее лицо у тебя, – сказал он, сравнив Макарова с Туробоевым, который смотрел на людей взглядом поручика, презирающего всех штатских. – И парень ты хороший, но, кажется, сопьешься.
– Возможно, – согласился Макаров спокойно, как будто говорилось не о нем. Но после этого замолчал, задумался.
На Воробьевых горах зашли в пустынный трактир; толстый половой проводил их на террасу, где маляр мазал белилами рамы окон, потом подал чай и быстрым говорком приказал стекольщику:
– Не мелетеши, не засти господам красотою любоваться!
– Костромич, – определил Макаров, глядя в мутноватую даль, на парчовый город, богато расшитый золотыми пятнами церковных глав.
– Да, красота, – тихо сказал он; Самгин утвердительно кивнул головою, но тотчас заметил:
– Понятие условное.
Не отвечая, Макаров отодвинул стакан с лучом солнца в его рыжей влаге, прикрытой кружком лимона, облокотился о стол, запустив пальцы в густые, двухцветные вихры свои.