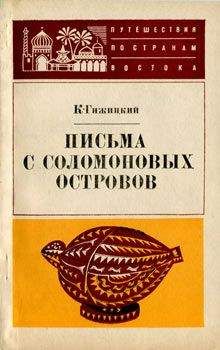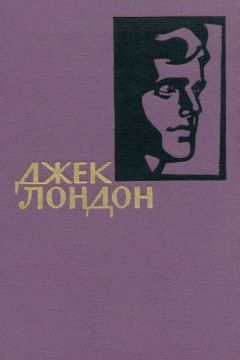Робер Мерль - Смерть — мое ремесло
Я снова и снова обращался к рейхсфюреру с просьбой не посылать мне столько транспортов, но безрезультатно. Случайно кто-то из офицеров аппарата рейхсфюрера проболтался, что рейхсфюрер отдал строгий приказ: всякий начальник СС, сознательно или бессознательно тормозящий программу уничтожения, подлежит расстрелу. Еврейским эшелонам надлежало повсюду предоставлять первоочередность и пропускать их даже раньше воинских составов с оружием и подкреплением для русского фронта.
Делать было нечего. Не без отвращения я наблюдал, как в столь образцово организованных мною вначале лагерях с каждой неделей все усиливался невообразимый хаос. Заключенные мерли как мухи. Эпидемии убивали почти столько же людей, сколько и газовые камеры. В бараках накапливались груды трупов, и особые команды не успевали вывозить мертвецов в крематории.
16 августа мне сообщили по телефону из Берлина, что штандартенфюреру Кельнеру разрешено в целях ознакомления осмотреть установки КЛ Биркенау. На следующий день утром на машине прибыл Кельнер. Я радушно принял его, и он выказал большой интерес к особой обработке и к организации крематориев. В полдень я повел его завтракать к себе домой.
В ожидании завтрака мы расположились в гостиной. Немного погодя вошла Эльзи. Кельнер поспешно встал, щелкнул каблуками, вынул монокль, согнулся почти вдвое и поцеловал ей пальцы. Затем он столь же поспешно, как и поднялся, сел, повернулся лицом к окну, предоставив нам лицезреть свой точеный профиль, и сказал:
— Как вам нравится в Освенциме, сударыня?
Эльзи открыла было рот, но он продолжал:
— Да, конечно, этот неприятный запах... — он сделал легкий жест, — и все прочее, но у нас в Кульмхофе те же небольшие неудобства, уверяю вас...
Он вставил монокль, огляделся.
— Однако вы хорошо устроились... вы прекрасно устроились, сударыня... — он бросил взгляд через стеклянную дверь в столовую... — О, я вижу, у вас резной буфет...
— Хотите посмотреть, штандартенфюрер? — предложила Эльзи.
Мы вошли в столовую, Кельнер остановился перед буфетом и долго рассматривал резьбу.
— Религиозные мотивы... — сказал он, прищурив глаза, — очень трогательно... еврейско-христианское представление о смерти... — Он сделал небольшой жест рукой. — И вся эта архаика... Конечно, смерть имеет значение, если допустить, как они, существование потусторонней жизни... Но какая законченность, мой дорогой! Какое мастерство!
— Это работа одного польского еврея, господин штандартенфюрер, — сказал я.
— Да, да, — заметил Кельнер. — Но у него все же, должно быть, есть в жилах немного северной крови. Иначе он не сумел бы создать такое чудо. Стопроцентные евреи не способны творить. Это уже доказано.
Он любовно провел своими холеными руками по резьбе.
— Да! — снова заговорил он. — Типичная работа заключенного... Они не знают, проживут ли еще хотя бы день, закончив свое творение... Поэтому смерть для них имеет значение... Они живут низменной надеждой...
Он поморщился, и я смущенно спросил:
— Вы считаете, господин штандартенфюрер, что я не должен был позволить еврею использовать религиозный сюжет?
Он обернулся ко мне и засмеялся.
— Ха-ха-ха! Ланг, — сказал он с лукавым видом, — вы и не подозревали, что ваш буфет вступает в такое противоречие с доктриной... — Он еще раз оглядел буфет, склонил голову и вздохнул. — Вам повезло, Ланг, с вашим лагерем. Среди такого большого количества заключенных, конечно же, должны быть и настоящие художники.
Мы сели за стол, и Эльзи сказала:
— Но я думала, штандартенфюрер, что у вас в подчинении тоже лагерь.
— С той разницей, — ответил Кельнер, развертывая салфетку, — что у меня нет, как у вашего мужа, постоянных заключенных. Они все у меня... — он криво усмехнулся, — транзитом.
Эльзи удивленно взглянула на него, а он продолжал:
— Надеюсь, вам не очень недостает родины-матери, сударыня? Польша — тоскливый край, не так ли? Но это, будем надеяться, скоро кончится. Наши войска продвигаются так стремительно, что уже недалек тот день, когда мы будем на Кавказе. Война не затянется.
— На этот раз мы покончим с ними до зимы, — сказал я. — Все здесь так думают.
— Месяца через два, — поддакнул Кельнер.
— Еще немного мяса, штандартенфюрер? — предложила Эльзи.
— Нет, благодарю вас, сударыня. В мои годы... — он усмехнулся, — надо уже следить за своей фигурой.
— О! Вы еще молоды, штандартенфюрер, — любезно возразила Эльзи.
Он повернулся к окну.
— Вот именно, — сказал он меланхолично, — я еще молод...
Наступило молчание, потом он заговорил снова:
— А что вы будете делать после войны, Ланг? Надо надеяться, лагеря не всегда будут.
— Я хочу попросить у рейха клочок земли где-нибудь на востоке.
— Мой муж, — сказала Эльзи, — был фермером полковника барона фон Иезерица в Померании. Мы обрабатывали небольшой клочок земли и занимались коневодством.
— Вот как! — сказал Кельнер, вынимая монокль и кидая на меня многозначительный взгляд. — Сельское хозяйство! Коневодство! Вы мастер на все руки, Ланг.
Он повернулся к окну, и мы снова увидели его строгий, благородный профиль.
— Это очень хорошо, — с важностью сказал он, — это очень хорошо, Ланг. Рейху будут нужны колонисты, когда славяне... — он усмехнулся, — исчезнут. Вы будете... как это выразился рейхсфюрер... образцовым немецким пионером в восточных провинциях. Впрочем, — добавил он, — если не ошибаюсь, он сказал это именно о вас.
— Правда? — с заблестевшими глазами спросила Эльзи. — Он так сказал о моем муже?
— Да, сударыня, — любезно подтвердил Кельнер. — Помнится, речь шла именно о вашем муже. Теперь я даже уверен, что о нем. Рейхсфюрер — хороший судья.
— О! — воскликнула Эльзи. — Я очень рада за Рудольфа! Он так много работает и такой добросовестный во всем!
— Полно, Эльзи! — заметил я.
Кельнер засмеялся, с умилением взглянул на нас и поднял к небу свои холеные руки.
— Как приятно снова очутиться в настоящей немецкой семье, сударыня. — И меланхолично добавил: — Сам я холостяк, не было, так сказать, призвания, но в Берлине у меня женатые друзья. Совершенно очаровательные...
Он оборвал себя на полуслове. Мы встали из-за стола и перешли в гостиную пить кофе. Это был настоящей кофе, полученный Хагеманом из Франции. Он дал один пакет Эльзи.
— Поразительно! — воскликнул Кельнер. — Вы здесь, в Освенциме, неплохо живете, как сыр в масле катаетесь. Жизнь в лагерях имеет и свои положительные стороны... Если бы только здесь не было... — он брезгливо поморщился, — всех этих уродств.
Он сосредоточенно помешал ложечкой в чашке.
— Вот в чем недостаток лагерей — уродство! Я пришел к этой мысли сегодня утром, Ланг, когда вы мне показали особую обработку. Все эти евреи...
Я торопливо прервал его.
— Извините, господин штандартенфюрер... Эльзи, ты не сходишь за ликерами?
Эльзи удивленно взглянула на меня, встала и вышла в столовую. Кельнер не поднял головы. Он все еще мешал кофе ложечкой. Эльзи не прикрыла за собой дверь, и она осталась полуоткрытой.
— Какие они все уродливые! — продолжал Кельнер, глядя в чашку. — Я хорошо разглядел их сегодня, когда они входили в газовую камеру. Какое зрелище! Какая отталкивающая нагота! В особенности женщины...
Я с отчаянием глядел на него. Но он не подымал глаз от чашки.
— И дети... эти худые... обезьяньи мордочки... не больше моего кулака... Действительно, они выглядят жутко... А когда началось отравление...
Я посмотрел на Кельнера и с ужасом перевел взгляд на дверь. Меня бросило в пот. Я не в состоянии был произнести ни слова.
— Какие отвратительные телодвижения! — продолжал он медленно, машинально мешая кофе ложечкой. — Настоящая картина Брейгеля! За одно это уродство они заслуживают смерти. И подумать только... — он усмехнулся, — подумать только, после смерти они пахнут еще хуже, чем живые!
Я решился на дерзость — коснулся его колена. Он вздрогнул, я наклонился к нему, кивком указал на неплотно закрытую дверь и быстро шепнул:
— Она ничего не знает.
Он разинул рот и на мгновение, пораженный, замер. Он даже перестал мешать ложечкой свой кофе. Наступило молчание, и именно молчание-то было хуже всего.
— Брейгель, — с фальшивым оживлением снова заговорил он, — вы знаете Брейгеля, Ланг? Не старика Брейгеля... не того, а другого... адского Брейгеля, как его называли... Вот именно адского, потому что он изображал ад...
Я уставился в свою чашку. Послышались шаги, стеклянная дверь хлопнула, и я с трудом заставил себя не поднять глаза.
— Представьте себе, он любил изображать ад, — нарочито громко продолжал Кельнер, — он обладал каким-то особым талантом в изображении жуткого...
Эльзи поставила поднос с ликерами на низенький столик, и я сказал с подчеркнутой приветливостью:
— Спасибо, Эльзи.
Наступило молчание, Кельнер украдкой взглянул на меня.