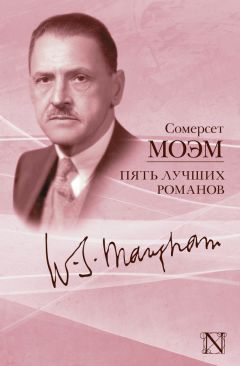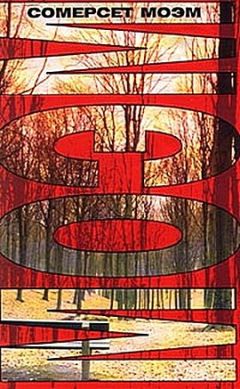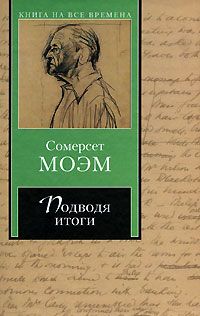Сомерсет Моэм - Острие бритвы
Опасные это были игрушки, тогдашние аэропланы: поднимаясь в воздух, ты всякий раз рисковал жизнью. Высота по теперешним меркам была ничтожная, но мы другого не знали и считали себя героями. Не могу описать, какое чувство это во мне рождало, но в воздухе я бывал горд и счастлив. Я ощущал себя частью чего-то необъятного и прекрасного. Точнее я не мог бы это выразить, я только знал, что там, на высоте двух тысяч футов, я уже не один, хоть со мной никого и нет. Наверно, это звучит глупо, но что поделаешь. Когда я летел над облаками, а они ходили подо мной, как огромное стадо овец, я чувствовал себя на короткой ноге с бесконечностью.
Ларри умолк. Он уставился на меня своими непроницаемыми глазами, но, по-моему, не видел меня.
— Я и раньше знал, что людей убивают сотнями тысяч, но никогда не видел, как их убивают. И меня это близко не задевало. А потом я своими глазами увидел мертвеца. И мне стало невыносимо стыдно.
— Стыдно? — воскликнул я невольно.
— Стыдно, потому что этот мальчик, всего на три-четыре года старше меня, такой подвижный и храбрый, за минуту до того полный жизни и всегда такой славный, превратился в груду искромсанного мяса, так что и не верилось, что только что это был живой человек.
Я промолчал. Я видел немало мертвецов в свою бытность студентом-медиком и еще много больше — во время войны. Меня-то всегда угнетало, какой у них жалкий, ничтожный вид. В них не было ни на грош благородства. Марионетки, которых кукольник выбросил на помойку.
— В ту ночь я не мог уснуть. Я плакал. За себя я не боялся, я был глубоко возмущен. Бессмысленная жестокость смерти, вот с чем я не мог примириться. Война кончилась, я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам, и я хотел, если ничего не выйдет с авиацией, пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормошили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь. Мне-то просто повезло, что я выжил, и хотелось на что-то употребить свою жизнь, а на что — я не знал. О Боге я раньше никогда не задумывался, а теперь стал о нем думать. Я не мог понять, почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было не к кому, и я стал читать что попало.
Когда я рассказал все это отцу Энсхайму, он спросил: «Значит, вы четыре года читали. И к чему вы пришли?»
«Ни к чему не пришел».
Он поглядел на меня так любовно, что я смешался. Чем я мог вызвать в нем такую приязнь? Он стал тихонько барабанить пальцами по столу, словно что-то обдумывая, и наконец заговорил:
«Наша мудрая старая церковь пришла к выводу, что, если человек поступает как верующий, вера будет ему дана; если он молится сомневаясь, но молится искренне, сомнения его рассеются; если он покорится красоте богослужения, власть коей над человеческим духом доказана многовековым опытом, мир снизойдет в его душу. В скором времени я возвращаюсь к себе в монастырь. Не хотите ли вы поехать со мной и пожить у нас несколько недель? Вы могли бы работать в поле с нашими младшими монахами, могли бы читать в нашей библиотеке. Как переживание это будет не менее интересно, чем работа в угольной шахте или на немецкой ферме».
«А почему вы мне это предлагаете?»
«Я вас наблюдаю три месяца. Возможно, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Стена, отделяющая вас от веры, не толще листка папиросной бумаги».
На это я ничего не сказал. У меня было странное чувство, точно кто-то ухватил меня за самое сердце и тянет. Я сказал, что подумаю. Он заговорил о другом. Потом до его отъезда из Бонна мы больше не говорили ни о чем связанном с религией, но, уезжая, он дал мне адрес своего монастыря и сказал, что, если я надумаю приехать, надо только черкнуть ему, и он все устроит. Я и не думал, что буду так о нем скучать. Время шло, лето уже было в разгаре. В Бонне все шло хорошо. Я читал Гете, Шиллера, Гейне, читал Гельдерлина и Рильке. Но по-прежнему топтался на месте. Я часто вспоминал отца Энсхайма и наконец решил воспользоваться его приглашением.
Он встретил меня на станции. Монастырь был в Эльзасе, в живописной местности. Отец Энсхайм представил меня настоятелю, потом провел в келью, где мне разрешено было жить. Там стояла узкая железная кровать, на стене висело распятие, а мебель была только самая необходимая. Зазвонил колокол к обеду, и я пошел в трапезную. Это была огромная палата со сводчатым потолком. В дверях стоял настоятель с двумя монахами, один держал таз, другой полотенце, и настоятель в виде омовения брызгал водой на руки гостей и вытирал их полотенцем, которое подавал ему монах. Гостей, кроме меня, было еще трое: два священника, ехавшие куда-то по своим делам и задержавшиеся здесь пообедать, и ворчливый пожилой француз, на время удалившийся от мира.
Настоятель и два приора, старший и младший, сидели в верхнем конце трапезной, каждый за своим столом, ученые монахи — вдоль двух длинных стен, а монахи-работники, послушники и гости — за столами посреди комнаты. Была прочитана молитва, и мы поели. Один из послушников, стоя в дверях, монотонно читал из какого-то назидательного сочинения. После обеда опять прозвучала молитва. Потом настоятель, отец Энсхайм, гости и тот монах, в чьем ведении они находились, перешли в небольшую комнату, где попили кофе и побеседовали о том о сем. А потом я вернулся в свою келью.
Я провел там три месяца. Мне было очень хорошо. Такая жизнь как нельзя более мне подходила. Библиотека оказалась богатейшая, я много читал. Никто из монахов не пытался на меня влиять, но разговаривали они со мной охотно. Их ученость, благочестие и отрешенность от мира произвели на меня большое впечатление. И не думайте, что они вели бездельную жизнь. Они сами обрабатывали все свои земли, так что и моя помощь пригодилась. Я наслаждался великолепием церковных служб, больше всего мне нравилась утреня. Ее служили в четыре часа утра. Удивительно это волнует — сидишь в церкви, а вокруг тебя еще ночь, и монахи, таинственные в своих клобуках и рясах, выводят песнопения сильными, звучными голосами. В самом однообразии ежедневного распорядка было что-то умиротворяющее, и, несмотря на деятельную жизнь, которая тебя окружала, и на неустанную работу мысли, тебя не оставляло чувство тишины и покоя. Ларри улыбнулся чуть печально.
— Я как Ролла у Мюссе: «Я в слишком старый мир явился слишком поздно». Мне бы надо было родиться в средние века, когда вера была чем-то непреложным: тогда мой путь был бы мне ясен, и я сам просился бы в монашеский орден. Но у меня веры не было. Я хотел верить, но не мог поверить в Бога, который ничем не лучше любого порядочного человека. Монахи говорили мне, что Бог сотворил мир для вящей славы своей. Мне это не казалось такой уж достойной целью. Разве Бетховен создал свои симфонии, чтобы прославить себя? Нет, конечно. Я думаю, он их создал, потому что музыка, которая его переполняла, рвалась наружу, а он уж только старался потом придать ей самую совершенную форму.
Я часто слушал, как монахи читали «Отче наш», и думал, как они могут изо дня в день взывать к отцу небесному, чтобы он дал им хлеб насущный? Разве дети на земле просят своих отцов, чтобы те их кормили? Это разумеется само собой, дети не чувствуют и не должны чувствовать за это благодарности, и мы осуждаем человека, только когда он производит на свет детей, которых не хочет или не может прокормить. Мне казалось, что, если всемогущий творец не в силах обеспечить свои творения самым необходимым для физической и духовной жизни, лучше бы ему было их не творить.
— Милый мой Ларри, — сказал я, — надо радоваться, что вы не родились в средние века. Вы, несомненно, окончили бы жизнь на костре.
Он улыбнулся.
— Вы вот знаете, что такое успех. Вам приятно, когда вас хвалят в лицо?
— Меня это только конфузит.
— Я так и думал. И не мог поверить, что Богу это нужно. В полку мы не очень-то уважали тех, кто подлизывался к командиру, чтобы получить тепленькое местечко. Вот и мне не верилось, что Бог может уважать человека, который с помощью грубой лести домогается у него спасения души. Мне казалось, что самый угодный ему способ поклонения должен бы состоять в том, чтобы поступать по своему разумению как можно лучше.
Но больше всего меня смущало другое: я не мог принять предпосылку, что все люди грешники, а монахи, сколько я мог понять, исходили именно из нее. В авиации я знал многих ребят. Конечно, они напивались, когда представлялся случай, и от женщин не отказывались, когда повезет, и сквернословили; попадались и злостные мошенники; одного парня арестовали за то, что подсовывал негодные чеки, и дали ему шесть месяцев тюрьмы; но он был не так уж виноват: раньше у него никогда денег не водилось, а тут стал получать много, сколько не мечтал, и ему это ударило в голову. В Париже я знавал порочных людей, и в Чикаго, когда вернулся, тоже, но в большинстве случаев в их пороках была повинна наследственность, против которой они были бессильны, и среда, которую они не сами себе выбирали; я готов допустить, что в их преступлениях виноваты не столько они, сколько общество. Будь я Богом, я бы ни одного из них, даже самого худшего, не осудил на вечное проклятие. Отец Энсхайм смотрел на вещи широко, он толковал ад как запрет лицезреть Бога, но если это такое страшное наказание, что его можно назвать адом, как представить себе, что оно может исходить от милосердного Бога? Ведь он, как-никак, создал людей. Раз он создал их способными на грех, значит, такова была его воля. Если я обучил собаку набрасываться на каждого, кто зайдет ко мне во двор, негоже ее бить, когда она это делает.