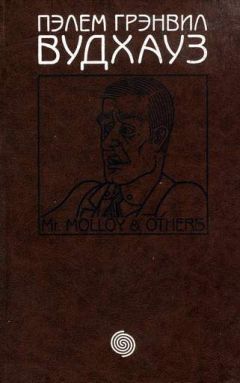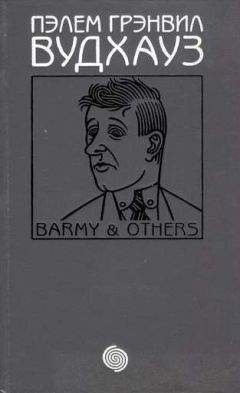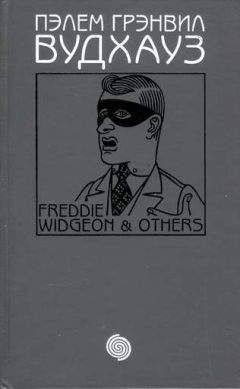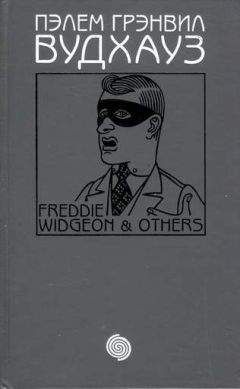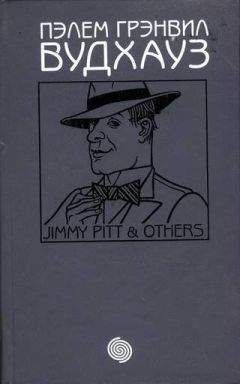Пэлем Вудхауз - Том 14. М-р Моллой и другие
— Ну, Шимпи! Что ты говоришь! Треть — тебе, треть — мне, треть — вот ей!
— Еще чего!
— Что-что?
— Е-ще че-го. Кто я такой, по-вашему?
— Трудно сказать, — ехидно заметила Долли. — Как говорится, единственный в своем жанре.
— Вот как?
— Да уж так.
— Ну-ну-ну! — вмешался Моллой. — Не будем переходить на личности. Что-то я не пойму. Неужели ты хочешь забрать пятьдесят процентов?
— Конечно, нет. Я хочу забрать больше.
— Что!
— То. Мне — шестьдесят, вам — сорок.
Комнату огласил пронзительный крик. Пылкая Долли подошла к пределу, за который женщину толкать нельзя.
— Нет, каждый раз одно и то же! — с гневом сказала она. — Как дойдет до дележки — норовишь нас обставить. И что это с тобой, Шимп? Почему тебе больше всех надо? Ты кто, человек или кусок зеленого сыра?
— Да уж человек!
— Вот и докажи.
— А что такое?
— Посмотри в зеркало.
Миролюбивый Моллой почувствовал, что самое время вмешаться.
— Ну-ну-ну! Так мы ничего не добьемся. Откуда ты взял, Шимпи, что тебе причитается больше?
— А вот откуда. Я красть не обязан, так? Могу сидеть-лечить, так? Хорошее, приличное дело. Значит, я оказываю услугу. Так?
Долли запыхтела. Миролюбивое вмешательство мужа не усмирило ее.
— Дело! — воскликнула она, — Не знаю, для чего ты его завел, но уж насчет приличий…
— Какое же оно еще? Умный человек всегда может устроиться честно. Зачем мне нарушать законы? Ну, захотел помочь старым друзьям…
— Кому-кому?
— Дру-зьям. Если вам не нравятся мои условия, только скажите. Мне это все не нужно. Вернусь в свой «Курс». Хорошее, честное и, прибавим, процветающее дело. А приметы? Гулял я утром в саду, увидел сороку. Вот как вас вижу, тут — я, тут — она.
Долли пожалела бедную птицу, но поинтересовалась; какое отношение имеет она к их замыслу.
— Ну, как же! Сорока — не к добру. И еще я видел новый месяц.
— Ой, не пори ты чушь! — устало воскликнула Долли.
— Это не чушь. Шестьдесят процентов — или я не согласен. Могли бы обойтись без меня — не приглашали бы. Вообще-то это еще мало. Вся тяжелая работа на мне, так?
— Тяжелая? — Долли горько засмеялась. — Да что тут тяжелого? Дома никого не будет, уйдут на этот концерт, окно откроем заранее. Зашел — и сложил вещички. Тяжелая, это надо же! Даровые деньги.
— Шестьдесят, — повторил Твист. — Это мое последнее слово.
— Шимпи… — начал Мыльный.
— Шесть-де-сят.
— Побойся Бога!
— Шестьдесят.
— Даты…
— Шестьдесят!
Долли отчаянным жестом вскинула руки.
— А, ладно! — сказала она. — Дай ему, сколько просит. Что с ним спорить, со шкурой? Дай, пусть подавится.
3Предсказание мистера Моллоя исполнилось не совсем точно. На концерт ушли не все. Проходя по конюшенному двору часов в 10, мы заметили бы свет в окошке, а взобравшись на лестницу, обнаружили бы Джона, сидевшего у стола над счетами.
В наш склонный к развлечениям век редко найдешь юношу, который из чистой порядочности предпочтет работу деревенскому концерту. Джон буквально светился добродетелью, ибо он знал, что теряет. Он знал, что викарий скажет вводное слово; хор мальчиков споет старинные песни; мисс Вивиен и мисс Элис Понд-Понд исполнят негритянские мелодии в самом изысканном стиле; а в добавление к прочим номерам, слишком многочисленным и заманчивым, чтобы их перечислять, Хьюго Кармоди с другом, мистером Фишем, представят публике сцену из «Юлия Цезаря». Однако Джон сидел и работал. Видимо, будущее Англии не так печально, как мнится пессимистам.
Работа в эти дни хоть как-то утешала Джона. Должно быть, нет лучшего средства от любовных мук, чем прозаические подробности большого хозяйства. Сердцу не так уж легко болеть, когда разум занят тем, что Терби и Гонту нужно отдать 61 фунт 8 шиллингов 5 пенсов за установку газовой плиты, а сообществу сельских хозяев — 8 фунтов 4 пенса за цветочные семена. Прибавьте сюда трубы, навоз, корм для свиней, и вы окажетесь в обстановке, которая усмирила бы самого Ромео. Словом, Джону становилось легче. Если иногда, прервав работу, он бросал взгляд на фотографию, тут уж ничего не поделаешь. Со всеми случается.
Заходили к нему редко. Собственно, он поселился над конюшней, а не в самом доме, чтобы обеспечить себе одиночество. Как же удивился он, когда, разбираясь в счете за картошку («Вандершут и Сын»), заслышал шаги на лестнице. Через секунду-другую дверь открылась, и появился Хьюго.
Как и всегда в подобных случаях, Джону захотелось сказать: «Пошел вон!» Люди, говорившие эти слова его кузену, обычно ощущали, что поступают разумно и правильно. Но сейчас тот был так жалок и растерян, что Джон произнес:
— Привет! Я думал, ты на концерте.
Хьюго коротко, горько засмеялся и, усевшись в кресло, печально уставился в стену. Веки его казались усталыми, как у Моны Лизы. Вообще же он напоминал героя русских романов, который размышляет, убить ли родича-другого, прежде чем повеситься в амбаре.
— На концерте!.. — повторил он. — Да уж, я там был!..
— Сыграл эту сцену?
— Да уж, сыграл. Они выпустили нас сразу после викария.
— Хотели скорей провернуть то, что похуже? Хьюго с бесконечной скорбью поднял руку.
— Не шути, Джон. Не глумись. Не измывайся. Я — человек конченный. Пришел за утешением. Выпить что-нибудь есть?
— Немножко виски в том шкафу.
Хьюго поднялся, совершенно уподобившись русскому герою.
— Не слишком крепко? — озабоченно спросил Джон. — Может, еще водички?
— Ну, что ты! — отвечал страдалец, выпил весь бокал махом, налил его снова и вернулся в кресло. — Какая водичка! Лучше вообще не разбавлять.
— Что случилось? — спросил Джон.
— А ничего виски! — заметил Хьюго. — Совсем даже ничего.
— Сам знаю. Что случилось? Хьюго снова помрачнел.
— Старик, — сказал он, — мы провалились.
— Да?
— При чем тут «да»? Ты что, так и думал? Я вот очень удивился. Это же верный успех! Конечно, нельзя было ставить нас в начале. Перед серьезной сценой публику надо расшевелить.
— А случилось-то что?
Хьюго опять поднялся и наполнил бокал.
— Сюда, в этот Радж, — начал он, — проникает тлетворный дух. Я бы так сказал, дух беззакония и распутства. Освистали бы меня несколько лет назад? Да ни за что на свете!
— Ты не играл здесь «Юлия Цезаря», — напомнил Джон. — У каждого есть свой предел.
Довод был убедителен, но Хьюго его не принял.
— В доброе старое время я мог бы читать им монолог Гамлета. Нет, дело в беззаконии. Я бы даже сказал, в большевизме. Сзади стояли какие-то субъекты с Бадд-стрит. Раньше бы их никто не пустил. Начали они сразу, шикали на викария. Я думал, они хотят, чтобы он закруглялся, не задерживал номеров, а только выйдем мы с Ронни, они обалдеют. Но нет. Только мы начали, слышу: «Вон!», «Долой!», «Брысь!»
— Понятно. Они не обалдели.
— В жизни так не удивлялся! Да, конечно, Ронни подкачал. Забудет текст и говорит: «Ой, простите!». Но он сегодня расстроен. Получил письмо от Бессемера, это его слуга, они много лет вместе. Ты бы видел, как этот Бессемер гладит брюки! Да, так вот, он женится. Когда на душе такое бремя, Брута играть нельзя. Сложная роль.
— Публика подумала то же самое, — предположил Джон. — А дальше что было?
— Ну, играем мы, дошли до строчек про «яд хандры», и тут эти пролетарии стали швыряться овощами.
— Овощами?
— Большей частью, репой. Понимаешь, что это значит?
— В каком смысле?
— В таком, что они подготовились. Иначе зачем брать на концерт репу?
— Ощутили, наверное, что она им понадобится.
— Нет. Это все большевики, о которых столько пишут.
— Ты думаешь, Москва им платит?
— Скорее всего. В общем, мы растерялись. Ронни стукнуло по голове, он убежал. Диалог один не сыграешь, так что я тоже смылся. Насколько помню, на сцену вылез Байуотер и стал рассказывать анекдоты про ирландцев со шведским акцентом.
— Репу кидали?
— Нет, вот что странно. Дело ясное, большевики. Ты посуди, он порет черт-те что — и ни единой репы. А мы с Ронни… Ладно, — голос у Хьюго стал зловещим, — больше я здесь не выступлю. На будущий год придут, а я им скажу: «Как? После того, что было?!» Спасибо за виски. — Хьюго встал и отрешенно двинулся к столу, — Что ты делаешь?
— Работаю.
— Работаешь?
— Да.
— А что такое?
— Счета. Оставь ты эти бумаги!
— Это вот — что?
— Это, — ответил Джон, выхватывая бумагу и кладя ее подальше, — схема альфа-сепаратора. При помощи центробежной силы может обработать в час две тысячи семьсот двадцать четыре кварты молока. К нему присоединена маслобойка, а также кипятильник, который при 70° по Цельсию уничтожает вредоносные и нейтральные бактерии.