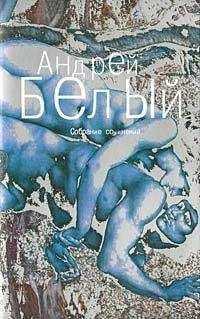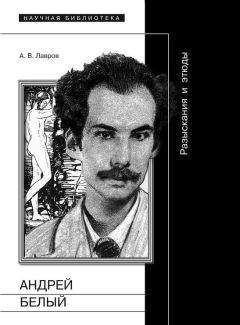Андрей Белый - Серебряный голубь
По дороге из Лихова громыхает телега: это мужик Андрон возвращается с погулянок; у него в телеге кульки, бутыль казенного вина, да связка баранок. И Андрону весело.
Вдруг телега спотыкается о чье-то тело.
– Тпру!… Никак ефта гуголевский барин? – наклоняется над телом Андрон.
– Барин, а, – барин!
– Ах, где ты, дитё светлое, голубиное? – сонно бормочет Петр…
– Ишь, дитю поминает, – соболезнует Андрон: – да никак пьян он… И впрямь нахлестался…
– Барин!
– Ах, не моя ли расклевана голубем грудь?…
– Вставай, барин…
Тупо поднимается Петр и начинает подплясывать:
Старик –
Тартараровый тарарик.
Андрон берет его поперек пояса и укладывает на телегу: «А ты, быдлом бы тебя… бутыком бы чебурахнул»…
– Матрена, ведьма: пошел прочь, долгоносик, – продолжает бормотать Петр; но Андрон не обращает на него больше никакого внимания; чмокает губами Андрон; «дырдырды» подплясывает телега и уже вот – Целебеево перед ними.
Тут Петр очнулся: он вскочил на телеге; смотрит: прямо – канава; оттуда в бирюзовое утро свищет полынь.
– Где я?
– Повыпивал, барин, маленька: тут бы табе на дороге астаться, кабы не я.
– Как это я сюда попал?
– Немудрено; и не в такие места попадают спьяну.
Петр вспоминает все: «Сон то иль не сон?» – думает он и его охватывает дрожь.
– Ужас и яма, и петля тебе, человек, – невольно шепчут его уста; он благодарит Андрона, соскакивает с телеги; пошатываясь с перепою, он бредет к столяровской избе.
Все тихо: у избы Кудеярова столяра хрюкает выпущенный на волю хряк: дверь во двор не прикрыта: «Значит, я выходил со двора», – думает Петр, но он этого не помнит, помнит он только пляску, да Матренку с приподнятым подолом, да кидающуюся на грудь его хищную птицу, взявшуюся Бог весть откуда… Помнит еще он какое-то светлое виденье; и – ничего не помнит.
Он входит в избу: в избе храп, да сап, да тяжелый угарный запах: на столе – жестяной опрокинутый ковш; на столе на полу пролитое вино, будто крови пятна.
Равномерно тикают часики.
Угрозы
После долгого исчезновенья нищий Абрам, уходивший куда-то, с утра, наконец, заходил под окнами хат; он распевал псалмы глухим басом, посохом отбивая дробь: сухо беззвучные молньи блистали с оловянного его голубка: белая, войлочная поганка то здесь, а то там – за яйцом, за краюхой, копейкой – протягивалась в окно; из окна протягивалась рука то с яйцом, то с краюхой, с копейкой – для умилостивления ради; но хриплый нищенский басок-голосок вовсе не умилостивлялся: он становился суше, грознее; так же грозил неизвестными бедами нищего голос, как и бедами угрожал сухой августа день: в сухом августа дне Абрам отбивал посохом дробь, и в окно протягивалась поганка, и беззвучная молнья блистала с оловянного голубка.
Было всего три нищих в целебеевской округе: Прокл, Демьян да Абрам, четвертый же по прозванью «бездна» редко показывался в наших местах; Прокл был пьянчужка с добродушной улыбкой, Демьян воровал кур, четвертый же нищий по прозванью «бездна» был припадочный.
Как бы то ни было, нищих ублажали и принимали; нищие были свои люди: и Абрам, обходя хаты, требовал положенного себе; и протягивались руки с ломтями, копейками, яйцами, и весьма распухал нищенский мешок.
Вот появился Абрам у двери лавочки, своей постукивая дубинкой, и уже не псалом он запел, а старинную песню:
Братия, вонмите,
Все друзья мои,
Внятно преклоните
Ушеса свои.
Братия, явите
Милости свои,
Себя не соблазните,
Зря грехи мои.
Но приятное это, тихой угрозой прикрытое пение, произвело суматоху; выскочил лавочник Иван Степанов, из лавки с очками на носу, припадая на подбитую ногу, и поднес фигу под самый Абрамов нос.
– Я те подам, дармоед, стервец, сектанская собака, погоди, погоди ужо до вас доберутся!
А уж из лавки выходит урядник и гымкает себе в нос.
Абрам поклонился и тихо пошел по дороге к Гуголеву.
____________________
Над гуголевским окном вяло висли красные листья блекнущего винограда; Катя стояла у открытого окна, положив руки на плечи бабке; бабка наматывала шерсть; Павел Павлович, барон, стоя над старой, с почтительной снисходительностью на пальцах держал шерстяные нитки.
Вдруг под окном раздалась песнь:
Рай пресветлый на востоке,
Вечной радости страна
Незамечена в пороке,
Девам будешь отдана.
Лучше царских там палаты,
Вертограды и сады,
Терема, чертоги златы,
В садах дивные плоды.
Под окном стоял нищий Абрам, отбивая посохом дробь и в окно протягивая поганку; оловянная молнья сухо блистала с беззвучного голубка; уже серебряная монета скатилась в поганку, а еще он продолжал:
Плавно катятся там реки,
Чище слез водна струя, –
Там вселишися навеки,
Дочь любимая моя…
Все погаснут в душе страсти,
Там лишь радость да покой…
– А-аа!… – раздалось рыдание Кати; она упала в кресло, закрыв пальчиками лицо…
– Пошел прочь, негодяй! – ударила бабка тяжелою тростью; но Абрам уже скрылся в окне; поднялась суматоха…
В глубоком безмолвии раскуривая цигарку, Абрам сидит под образами в красном углу; перед ним же столяр на колченогих таскается ногах – из угла да в угол, колупая палец; крепкая злоба глядит из его бесноватых глаз; жалуются друг другу:
– А с лавочника содрать бы шкуренку да присыпать бы сольцею: подлая бестия; все-то выслеживат!…
– Ну, да ждет его наказанье!…
– Все ли готово?…
– Все: и сухая солома, и пакля, и керосин: полно ему палить окрестность, – сам развеется пеплом!
– А назначен ли кто для запала?…
– А никто не назначен – вот тоже… Попалю его взором.
Молчание.
– Вот тоже парнишка: не ндравитца мне парнишка; как бы не убаялся деланья?
– А вы делали?
– Делали.
– Али у вас там что не так?
– Так-то оно так: да мало – боится парнишка деланья. Силы в иём мало; делали мы; оно, положим, дите от молений телесное образовалось; да некрепкое дите – рассеиватца паром, боле часу не держитца; а все от парнишкиной слабости… А я ли силушки не накачивал на иево! Матренка ли иево не… А все же молодчик боится…
– Ты бы ему сказал, – и Абрам зашептал столяру.
– Куда там: испугатца – еще сбежит.
– А коли сбежит?
– Так поймаю…
– А коли вовсе?…
– Пропащее это дело: сбежать ему ноне нельзя никак.
– А коли все-таки?…
– А-а-а… я-я-я… – стал заикаться столяр, – тта-а-а-а-гда… – и крепкими глазами своими указал на нож.
– Ха-ха! стало быть, не уйдет?…
– Уйти-то ему некуда от меня; уйдет – перережу глотку.
Молчание____________________
____________________
В тот день как раз в поповском смородиннике затарарыкала гитара: струна заливалась на все село; выпивались рюмки, проливались попадьихины слезы, заливалась гитара так лихо, так гладко: поп же Вукол делал крепость из стульев и потом, вооружившись кочергой, брал эту крепость с дьячком; как на грех, в крепости очутился попенок: поп попенка – в полон; да вмешалась тут осерчавшая попадьиха; и ее гитара так-таки заходила на поповской спине: бац-бац-бац; гитара – в осколки; а в кустах – хихикали; поп же от попадьихи – спасаться в колодезь; ухватился за веревку, ноги расставил к колодезным доскам, да на самое дно колодца и съехал; сидит там по колено в воде, глядит над собой в голубой неба вырез; видит он, что убивается там попадья: «горемычная», попа упрашивает слезно подняться обратно; а поп сидит по колено в воде да на все приставанья – «не хочу, да не хочу: здесь мне прохладно». Хотели уж лезть за попом; да, наконец, набравшись великодушия, дал поп согласие добрым людям на изъятие его из колодезного отверстия; опустили веревку с нацепленным ведерцом, да и вытащили попа; в ведерцо ногами уперся, сам весь закоченел, с ряски льется вода – точно мокрая курица… Нехорошо посмеялись парни, нехорошо посмеялась учительша издали. День выдался грозный: уже за деревьями тарабарил с деревьями гром; и деревья глухо отшептывались; там же, где пыльная убегала в Лихов дорога, отчаянно на село помахивала руками та темная, годами село дозиравшая издали фигурка, и сухие потоки пыли вставали, неслись на село и лизали прохожим ноги, в небо кидались, там желтыми облаками клубились; и само грозное солнце, красное из-под пыли, сулило долгую засуху изнемогавшим от жара обитателям нашего села.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЧЕТВЕРТЫЙ
Речи вечерние
Красное, злое солнце пятиперстным венцом лучей кидалось на Целебеево из-за крон желтого леса; сверху была нежная неба голубизна; и казалось, что то холодные стекла; на закате стояли тучи, как тяжелые золотые льды; там вспыхивала зарница; весь тот блеск уставился в маленькое оконце столяровской избы.
У окна были Петр да Матрена.
– Знаешь ли ты, что столяр замышляет меня погубить?
– Молчи: вот он сам.