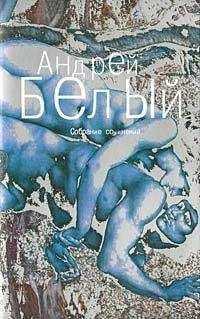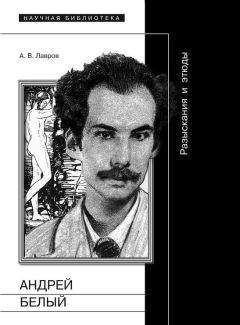Андрей Белый - Серебряный голубь
«Странное дело, – думал Петр, – вот ведь – весь он светится сладостью; но отчего же лик его неприятный и страшный?»… Смотрит Петр – видит: долгоносик просто какой-то сидит перед ним и весь светится: хотя и пресветлый долгоносик.
Все они так сидели, молчали, крестились, вздыхали, ожидая желанного гостя: не постучал ли желанный гость: тук-тук-тук; то стучали сердца; в лица же им лизали четыре красненьких пламенька с четырех восковых свечек; в жестяном ковше на столе запузырилось пеной только что пролитое вино; нынче был день молчаливой молитвы; вздох и хриплые стоны вырывались из уст столяра; порой же казалось, что это угрозы; порой, – что то глухой рев приближающегося потопа; иногда по столу пробегал прусак, замирал перед булкой, шевеля усами; и быстро переползал потом на краешек стола; Дарьяльский думал о том, что его не могли соблазнить ни богатая мудрость сего века, ни чистая девичья любовь от бегства не остановила его; а вот увели его в бездну звериха да долгоносик; но долгоносик строго смотрел на Петра. Петр вздрогнул.
Ему показалось, что вот уже он в бездне; и четыре стены – ад, в котором запытают его; но отчего в бездне той душа зажигается, и пальцы истекают светом; бездна то иль поднебесная высота? Если высота, то к чему столяр – долгоносик? Долгоносик строго на Петра посмотрел: Петр вздрогнул.
Смотрит, – света круг, потрескивая, над столяром ширится, и будто столяр – не столяр, а так что-то, световое явленье; бьют, колют, режут и жгут тело Петра острые лучи, будто пронизывая его мысли; ему кажется, – грозное что-то такое в столяре: нет – то мгновенное привиденье.
Ковш пенистого вина обходит их всех; засыхает вино на желтых усах столяра прикипевшею черною кровью: преломляется французская булка; белую жадно глотают мякину, смоченную вином; и уже тают стены, тают сомненья, тает желтенький воск свечей; капает воск на атласа алую ленту: тает все и уже веселье и легкость.
Друг на друга глазами блеснули; пьяные счастьем смеются, плюются; загрохотал басом космач; все плеснули в ладоши, пошла в пляс Матренка: пляшет жёнка, приговаривает столяр: «Сусе, Сусе, стригусе: бомбарцы… Господи помилуй». Топотом, ропотом, щекотом себя услаждают, смеются; блестят зубы; блестят очи; Матрен-ка юбки задрала и отделывает стрекоча-ягоча; слепнут очи от этих молитвой озаренных тел; блестит для чего-то на столе оставленный нож; вдруг лезвие запищало: «Тела белого – молодецкого». Космач перед Матреной пустился вприсядку. И уже вот – тронулось все: казалось, четыре стены, наглухо отделяющие это пространство от мира, снялись с места: по всему видно, что это – теперь, улетающий в синее небо корабль; войди-ка, братик, теперь за порог дома – за порогом дома теперь, как есть, пустота лишь внизу, далеко, глубоко под ногами, в тьме ночной, далеко поблескивают целебеевские огоньки, как далекие звезды, или отблески лунные луж под ногами; отделенные от жилья сладчайшими воздухами, все четверо летят в пустоту.
Все тронулось: стены трещат; изба-корабль наклоняется направо, стол наваливается на Петра; опорожненный вина ковш скатывается на землю, над Петром поднимается сам столяр… Стены трещат – все тронулось; изба-корабль накреняется налево, стол отваливается от Петра: проваливается и столяр, подбрасывается Петр: адское ли то наказанье бездне, или райское, блаженное увеселенье, – кто знает, кто скажет?
Пляшет Матрена, подол высоко она подобрала; но лицо ее синее, а глаз не видать; белки, изливающие под глаза синеву; белые зубки укусили губу; полусапожками притопатывает, скувырнулся в угол космач и сопит. Пляшет Петр; непристойно так у него выходит! вдруг Матрена начала с себя скидывать одежу да одумалась: полураздетая, хикая, глядит на столяра, подбивает сапожками. Сам столяр пускается в пляс: с головы ленту долой, руки в боки: серьезно это у него выходит. А Матрена ладошками подбивает, нежным голосом подпевая в лад: забавная песенка, веселая, славная:
Старик –
Тартараровый тартарарик!
А космач из угла подхватывает:
Тартарара-тартарара!…
Тартара-тарарик…
Ух, да, поп –
Хлоп!…
Лбом –
В гроп!…
Тартарара-тартарара –
Тартара-тарарик!
Лихо это у них выходит: пляшут все четверо, и будто их пять… Кто же пятый?
____________________
– Да, брат – тут все возможно, – подхихикивает столяр; невидная благодать воздуха и внизy и вверху; за этой за крепостью воздушной ни мир им не виден, ни они миру не видны.
Вскакивает Матрена и выбегает со смехом из комнаты, неизвестно зачем за нею выбегает Петр; бегут по тому благодатному месту, где был дворик, выстланный навозом, только это не дворик – куда там, и не навоз под ногами, а мягкий прохладный бархат; открыли ворота, а за воротами, – как есть, ничего: ни Целебеева тут нет, никакого иного места: черный холодный бархат свищет им в уши: стоит изба в воздухе.
Все прегрешения – там остались, внизу, здесь – все возможно, безгрешно, ибо все – благодать; возвращаются в горницу.
А столяр-то уже на ногах, поднимает светлую руку над ними; будто он – будто не он, будто говорит, а будто и нет: так себе, в воздухе слова совершаются: «Что видите, детушки, ныне – в том отныне пребываю я и довека, ибо я к вам посланный в мир оттуда, где пребываю довека, совершить то, что подобает. Веселитесь, пойте, пляшите, ибо все спасены благодатью»… Так слышится Петру, только это не слова столяра; так себе завелись в воздухе.
А вот и слова столяра: тихонько подошел, рукой своей хворой поглаживает то Петра, то Матрену: «Ядреная баба – что? Вот тоже… Ну-ка, Матрена, барина свово абними… Нут-ка, детушки». Посмеивается тою стороною лица, которая подмигивает: «Я вот ух как»…
Жаркий уже пламень Петра с Матреной связал; дым столбом между их грудями; ушли на постель. И оттуда снова вернулись к столяру. Глядь, а уже все – иное; как вошли в парадную горницу – видят: космач-то перед столяром на коленях, кланяется земно, столяр же на лавке раскинулся – светлый-пресветлый; сладко так стонет, распоясался; грудь обнажена – прозрачная, как голубоватый студень, тихо колышется, а из груди, что из яйца, выклевывается птичья беленькая головка; глядь – из кровавой, вспоротой груди, пурпуровую кровушку точащей, выпорхнул голубок, будто свитый из тумана, – ну, летать! «Гуль-гуль-гуль» – подзывает Петр голубка; крошит французскую перед птицей булку, а голубок-то бросается к нему на грудь; коготками рвет на нем рубашку, клювом вонзается в его грудь, и грудь будто белый расклевывается студень, и пурпуровая проливается кровь; смотрит Петр – головка-то не голубиная вовсе – ястребиная.
– Ах! – и падает Петр на пол; и кровавое отверстие его расклеванной груди изрыгает фон-чаном кровь.
Тогда голубок кидается на Матрену: и вот уже четыре расклеванных тела безгласно лежат – на полу, на столе, на лавке с бескровными, мертвыми, но пресветлыми лицами, и ластится к ним, и порхает, и гулькает голубок с ястребиной головкой; сел на стол – побежал: коготками «ца-ца-ца» подклевывает хлебные крошки.
____________________
И тогда расплываются мертвые их тела, омыляясь будто туманной пеной, будто раскуриваясь дымом, и друг с другом сливаясь в сверкающий туман: и то не туман – в одно лучистое туман собирается тело: одно белое тело, сотканное из блистаний, явственно обозначается посреди комнаты; и в теле обозначаются, будто разрываются, глаза: далекие, грустные: безбородый, дивно юношеский лик, в белой, льна белее, одежде, и на той одежде золотые звезды; будто золотого струи вина пенятся, вьются на его голове кудри и текут мо плечам; а распластанной руки, между нежных, что лилии лепестки, пальцев, далекие грезятся звезды близкими: тихо блистают звезды вокруг пресветлого юноши – дити; голубиное дитятко, восторгом рожденное и восставшее из четырех мертвых тел, как душ вяжущее единство – кротко ластится голубиное дитятко к предметам; испивает дитятко красное вино: пурпуровые уста великой посмеиваются любовью. И уже стен нет: голубое рассветное с четырех сторон небо; внизу – темная бездна и там плывут облака; на облаках, простирая к дитяти руки в белоснежных одеждах, спасшиеся голуби, а там – вдали, в глубине, в темноте большой, красный, объятый пламенем шар и от него валит дым: то земля; праведники летят от земли, и новая раздается песнь:
Светел, ох, светел воздух холубой!
В воздухе том светел дух дорогой!
Но все истаивает, как легколетный чей-то сон, как видение мимолетное, и уже нет ни дити, ни красного, объятого пламенем шара: сверху – голубое небо; вдали – розовая заря; на западе мгла ночная да дым; в дыме же том зловеще погасающий, еще недавно багровый и тусклый, тусклый теперь месяца круг. Внизу, к скату притаилось село; белая колокольня еще в ночной мгле, а уже крест ее золотится так ясно: э – да Целебеево это: там горластые поют петухи да кой-где из хаты вырывается дым, да раздается мычанье коровы. Скоро оттуда поднимается пыль и лениво тронется на желто-бурую жниву рогатое стадо.