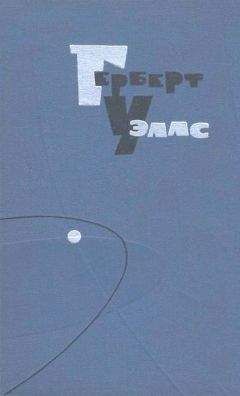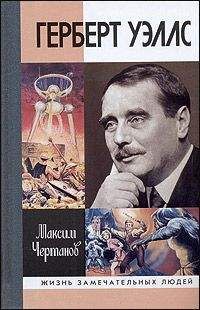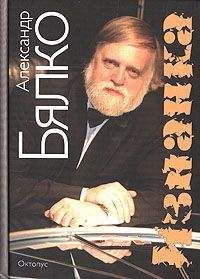Герберт Уэллс - Тоно Бенге
Дядюшка сказал, что ничего другого он и не ожидал, и когда Гордон-Нэсмит наконец снова появился и как бы случайно упомянул, что он ездил в Парагвай по своим личным делам (видимо, тут не обошлось без женщины), переговоры об экспедиции за куапом пришлось начинать с самого начала. Дядюшка настроен был весьма скептически, но о себе я этого сказать не могу. Должно быть, меня увлекала экзотическая сторона этого дела. Но до открытия Кэйперна ни у меня, ни у дяди и в мыслях не было отнестись к этому с полной серьезностью…
Рассказ Нэсмита завладел моим воображением, словно крохотный яркий блик тропического солнца, упавший на серую повседневность нашей деловой жизни. Я старался удержать его, пользуясь тем, что Гордон-Нэсмит время от времени появлялся в Англии. Мы встречались еще и еще, и всякий раз я подогревал свою фантазию. Мы завтракали с ним в Лондоне, или он приезжал в Крест-хилл посмотреть мои планеры и строил проекты, как бы опять добраться до этого куапа — одному или, может быть, вдвоем со мной. Порой все это казалось нам сказкой, игрой воображения. Но тут Кэйперн открыл свою «идеальную нить накаливания», и мы разом перестали сомневаться в том, что куап — это вполне реальная, настоящая ценность. Для нити накаливания нужно пять процентов канадия, который только недавно выделили из одной разновидности редкого минерала рутилия, в другом виде о нем до сих пор не знали. Но Торолду было еще известно, что канадий входит в состав таинственного комка глины, который я ему приносил для анализа, а я знал, что это одна из составных частей куапа. Я поговорил с дядей, и мы тотчас принялись за дело.
Как мы выяснили, Гордон-Нэсмит все еще не знал, что куапу теперь совсем другая цена, все еще думал, что радий имеет ценность лишь как материал для научных экспериментов и что самое ценное в куапе — редкий в природе церий, он связался с одним своим родичем по фамилии Поллак, произвел какую-то необыкновенную операцию со страхованием жизни и на вырученные деньги купил бриг. Мы немедленно вмешались, выложили три тысячи фунтов — и страховой полис Нэсмита и все участие Поллака в этой истории развеялось как дым, если не считать того, что, к моему великому сожалению, он остался совладельцем брига и тайны куапа. Однако во взаимосвязь канадия и идеальной нити он не был посвящен. Мы горячо поспорили, зафрахтовать ли пароход или отправиться на этом самом бриге, и, подумав, решили, что парусное судно будет меньше бросаться в глаза в таком предприятии, которое в конце концов, говоря откровенно, иначе, как кражей, не назовешь.
Но это было одно из последних наших предприятий перед тем, как нас постигла катастрофа, и о нем речь впереди.
Вот как случилось, что в круг наших деловых интересов вошел куап — вошел, как сказка, и стал явью. Он становился день ото дня реальнее и наконец стал подлинной реальностью, и вот я увидел своими глазами груды, которые уже давно рисовались моему воображению, и снова ощутил под пальцами зернистую и вместе с тем мягкую массу, напоминающую отсыревший сахарный песок, смешанный с глиной, и в этой массе таилась некая загадочная сила…
Надо самому испытать это, чтобы понять.
С чем только не приходили к дяде в Хардингем, чего только ему не предлагали! Гордон-Нэсмит стоит особняком лишь потому, что он в конце концов сыграл свою роль в нашем крушении.
Столько предложений сыпалось на нас, что порой мне казалось, словно целый мир человеческой мысли, таланта, энергии готов продаться нам за наши реальные и воображаемые миллионы. Оглядываясь назад, я и сам не могу понять, почему нам так везло да и было ли это все на самом деле. Мы проделывали самые невероятные вещи; теперь мне кажется безумием и нелепостью, что в столь важных областях человеческой деятельности волен распоряжаться, если ему вздумается, любой богатый предприниматель. Я не раз с удивлением убеждался, что в наше время именно от денег зависит, какие мысли и факты станут достоянием широкой публики. Среди многих других затей дядюшка во что бы то ни стало хотел купить «Британскую медицинскую газету» и «Ланцет» и поставить их, как он выражался, на современные рельсы, а когда издатели воспротивились, он некоторое время грозился организовать конкурирующее издание. Что и говорить, это была в своем роде блестящая мысль: мы получили бы возможность по своему усмотрению вмешиваться в методы лечения чуть ли не всех болезней, и, право, кажется, вся медицина должна была оказаться в наших руках. Я все еще удивляюсь и до самой смерти не перестану удивляться, что подобные дела возможны в современном государстве. Если эта затея и не удалась моему дядюшке, ее сможет осуществить кто-нибудь другой. Но даже если бы он и захватил оба еженедельника, сомневаюсь, подошел ли бы им его своеобразный стиль. Слишком заметной оказалась бы перемена в самом направлении журналов. Нелегко бы ему было выдержать их достойный тон.
И, конечно, он не сумел поддержать достоинство «Священной рощи» — солидного критического органа, который он, не упустив случая, купил за восемьсот фунтов. Он проглотил его, как говорится, со всеми потрохами, включая и редактора. Но «Священная роща» не стоила и этих денег. Если вы причастны к литературе, вы припомните, в какой ослепительно яркой обложке стал у него выходить этот почтенный орган британского интеллектуального мира и как вопиюще противоречила неистребимая дядюшкина деловитость возвышенному духу уходящего века. На днях мне попалась старая суперобложка, и вот что я прочел:
«СВЯЩЕННАЯ РОЩА»
Еженедельный художественный, философский и научный журнал
У вас дурной вкус во рту? Это из-за печени.
Вам нужно проглотить одну двадцатитрехцентовую пилюлю.
Всего-навсего одну. Не какой-нибудь аптечный препарат, а живительное, чисто американское средство.
Содержание:
Неопубликованное письмо Уолтера Патера.
Двоюродная прабабушка Шарлотты Бронте с материнской стороны.
Новая история католицизма в Англии. Гений Шекспира.
Наша почта: Гипотеза Менделя. Отделение частицы «to» от глагола в инфинитиве. «Начинать» или «положить начало».
Клуб остряков. Социализм и личность. Высокое достоинство литературы.
Беседы о фольклоре. Театр: Парадокс об актерском искусстве.
Путешествия, биографий, поэзия, проза и пр.
Лучшие в мире пилюли для больной печени
Должно быть, во мне еще уцелело нечто от блейдсоверских традиций, и потому-то меня так покоробило это сочетание литературы и пилюль; и точно так же, вероятно, в моей памяти уцелело нечто от Плутарха и наивной мальчишеской веры в то, что в основе своей наше государство должно быть преисполнено мудрости, здравого смысла и достоинства, и потому-то мне подумалось, что страна, где суд и оценка явлений медицины, литературы да и любой жизненно важной области всецело предоставлены частной инициативе и зависят от произвола любого покупателя, — такая страна, честно говоря, находится в безнадежном положении. Таковы были мои представления об идеальном устройстве мира. На самом же деле в наши дни для взаимоотношений науки и мысли с экономикой ничего не может быть естественнее и типичнее, чем эта обложка «Священной рощи» — спокойный консерватизм в крикливой, бьющей в глаза оправе; контраст дерзкого физиологического эксперимента и предельного умственного застоя.
Среди других картин хардингемской поры приходит мне на память один серый ноябрьский день: моросит дождь, и мы смотрим из окна на процессию лондонских безработных.
Казалось, мы заглянули в глубокий колодец, и нам на мгновение открылся какой-то иной, страшный мир. Несколько тысяч замученных нуждой, изможденных людей собрались и волочили по Вест-Энду свою жалкую нищету; они взывали — и в этой мольбе слышалась пусть несмелая, бессильная, но все же угроза: «Нам нужна не благотворительность, а работа».
Они шли сквозь туман, славно призраки, — молчаливые, еле передвигая ноги, и конца не было этому шествию серых теней. Они несли вымокшие, повисшие, точно тряпки, знамена, в руках у них позвякивали коробки для сбора пожертвований; это были люди, которые проморгали удачу, и те, кто слишком рьяно искал эту удачу, и те, кому ни разу в жизни не улыбнулась удача, и те, кому она никогда не могла улыбнуться. Медлительным, позорным потоком растекались они по улице, отбросы общества, построенного на конкуренции. А мы стояли высоко над ними, словно божества, принадлежащие к иному, высшему миру, — в яркой, освещенной, теплой и красиво обставленной комнате, полной дорогих вещей.
«Если бы не милость божья, — подумал я, — там с ними брели бы сейчас Джордж и Эдуард Пондерво».
Но мысли дяди шли совсем в ином направлении, и это зрелище вдохновило его на пылкую, но неубедительную речь по поводу Протекционистской реформы.
2. Мы переезжаем из Кэмден-тауна в Крест-хилл
До сих пор я рассказывал не столько о жизни моего дядюшки Эдуарда Пондерво и тети Сьюзен, сколько о его деловой карьере. Но наряду с рассказом о том, как бесконечно малая величина раздулась до огромных размеров, можно было бы поведать о другом превращении: о том, как постепенно, с годами жалкое убожество квартиры в Кэмден-тауне сменилось расточительной роскошью Крест-хилла с его мраморной лестницей и тетушкиной золотой кроватью, точной копией кровати во дворце Фонтенбло. И странно, когда я перехожу к этой части своего рассказа, я вижу, что о недавних событиях рассказывать труднее, чем о памятных, проясненных расстоянием мелочах тех далеких дней. Пестрые воспоминания теснятся, обгоняют друг друга; мне предстояло вскоре снова полюбить, оказаться во власти чувства, которое еще и сейчас не совсем остыло в душе, страсти, которая еще и сейчас туманит мой мозг. Сначала жизнь моя проходила между Илингом и домом дядюшки и тети Сьюзен, потом между Эффи и клубами, а затем между коммерцией и научными изысканиями, которые становились несравненно более последовательными, определенными и значительными, чем все мои прежние опыты. Поэтому я не успевал следить за тем, как неуклонно продвигались в обществе дядюшка и тетя; их продвижение в свете казалось мне мерцающим и скачкообразным, словно в фильме, снятом на заре кинематографии.