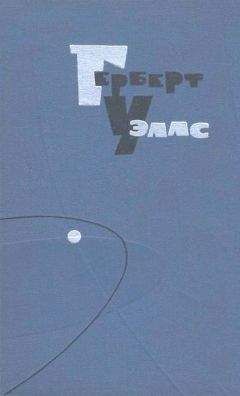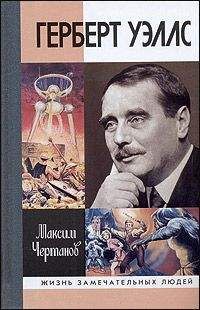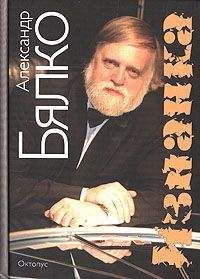Герберт Уэллс - Тоно Бенге
Пустив полным ходом свои предприятия, он счел необходимым по примеру своих предшественников учредить три мощные торговые компании: Лондонско-Африканский коммерческий банк. Компанию кредитного общества британских торговцев и Торговую компанию с ограниченной ответственностью. Все это было в дни его расцвета, когда я почти совсем не занимался делами. Я говорю это не из желания оправдаться, не скрываю, что был директором всех трех этих компаний и, должен сознаться, не знал и не хотел знать, того, что следовало знать, занимая этот пост. Заканчивая свой финансовый год, каждая из этих компаний оказывалась платежеспособной, так как продавала одной из своих сестер крупные пакеты акций и из вырученных денег оплачивала дивиденды. А я сидел за столом и со всем соглашался. Так мы удерживали в равновесии наш радужный, до отказа раздувшийся мыльный пузырь…
Теперь вы, надо думать, понимаете, за какие великие услуги наше фантастически устроенное общество одарило дядюшку несметным богатством, властью и неподдельным уважением. Это все была баснословная плата за смелую выдумку, награда за единственную реальность человеческого бытия — иллюзию. Мы ведь оделили людей надеждой и прибылью, и волна оживления и доверия подхватила и понесла их севшие на мель дела.
— Мы создаем веру, Джордж, — сказал однажды дядюшка. — Вот что мы делаем. И, ей-богу, надо продолжать в том же духе. Мы занимаемся этим с тех самых пор, как я заткнул пробкой первую бутыль Тоно Бенге.
Вернее было бы сказать, не создаем, а фабрикуем! И все же, скажу я вам, в известном смысле он был прав. Без доверия нет цивилизации, только благодаря ему мы можем держать деньги в банке и выходить на улицу без оружия. Банк, хранящий деньги, или полисмен, поддерживающий порядок в уличной сутолоке, — это блеф, лишь немного менее дерзкий, чем затеи моего дядюшки. Если бы от банков потребовали четверть доли того, что они берутся обеспечить, они тотчас оказались бы несостоятельными. Вся эта наша современная торгашеская, не признающая платежей наличными цивилизация, — штука столь же непрочная и ненадежная, как сновидение. Трудится в поте лица своего великое множество людей, все гуще становится сеть железных дорог, в самое небо вздымаются города и расползаются вдаль и вширь, открываются шахты, шумят заводы, ревет пламя в литейных, пароходы бороздят океан, заселяются новые земли, — и по этому деятельному, созидающему миру расхаживают богатые собственники, все им подвластно, все к их услугам; самоуверенные, они и нас заставляют в них поверить, собирают нас, соединяют, и поневоле, сами того не ведая, мы становимся членами одного братства. Я изобретаю и проектирую свои двигатели. Развеваются флаги, рукоплещут толпы, заседают парламенты. Но, право же, порой мне кажется, что вся эта нынешняя коммерческая цивилизация ничуть не лучше деятельности моего злополучного дядюшки — тот же мыльный пузырь уверений и обещаний, который все раздувается, становится все эфемернее; так же неосновательны расчеты, так же ненадежны дивиденды, так же смутна и давно забыта конечная цель, и, быть может, нашу цивилизацию так же неудержимо несет к какой-то грандиозной катастрофе, как несло моего дядюшку к трагической развязке его блистательной карьеры…
Так мы преуспевали и четыре с половиной года жили жизнью, в которой неразличимо переплелись реальность и фантастика. Пока нас не подвела наша же собственная недальновидность, мы разъезжали в самых великолепных автомобилях по вполне реальным шоссе, привлекали к себе всеобщее внимание и держались с достоинством в самых блестящих домах, стол у нас всегда был роскошный, а ценные бумаги и деньги нескончаемым потоком лились в наши карманы. Сотни тысяч мужчин и женщин низко кланялись нам, оказывали нам почет и уважение, отдавали нам свой труд; стоило мне сказать слово — и мои ангары и мастерские разрастались, и с неба устремлялись мои аэропланы и распугивали чибисов в низинах; стоило дядюшке махнуть рукой — и вот ему уже принадлежит «Леди Гров» со всеми своими рыцарскими преданиями и вековым покоем; новый взмах руки — и архитекторы хлопочут над проектом огромного дворца в Крест-хилле, который так и не был достроен, и к услугам дядюшки уже целая армия рабочих, из Канады везут голубой мрамор, из Новой Зеландии — строевой лес; и под всем этим, представьте, просто-напросто ничего нет, одни лишь вымышленные ценности, столь недолговечные, как золото радуги в небе.
Мне случается нередко проходить мимо отеля Хардингем, и я искоса поглядываю через громадную арку во двор на фонтан и зеленый папоротник и думаю о тек далеких днях, когда я был чуть ли не в самом центре этого нашего водоворота алчности и предприимчивости. Снова вижу бледное, напряженное лицо дядюшки, слышу, как он ораторствует, как принимает решения, взяв себе за образец Наполеона, «хватает за рога», «бьет наверняка», «берет на испуг», «ловит удачу». Ему особенно полюбилась эта последняя поговорка. Под конец, что бы он ни затеял, все у него так и получалось; раз — и готово, поймал удачу!..
Каких только чудаков не заносило к нам! Среди прочих появился и Гордон-Нэсмит, своеобразнейшая фигура, полумечтатель-полуавантюрист; ему суждено было втянуть меня в самое нелепое из всех моих приключений, в авантюру с островом Мордет, и по его милости мои руки, как говорится, обагрились кровью. Удивительное дело, этот памятный случай очень мало тревожит мою совесть, зато неизменно волнует воображение. Об острове Мордет подробно сообщалось в правительственном отчете, и сообщения эти были весьма далеки от правды; и до сих пор есть веское основание не раскрывать всей правды, но благоразумие не позволяет мне начисто умолчать об этом.
Я и сейчас живо помню, как Гордон-Нэсмит появился в дядином кабинете, в его святая святых, — длинный, дочерна загорелый, в спортивном костюме, лицо узкое, как лезвие ножа, с резкими, заостренными чертами и одним выцветшим голубым глазом, впадину на месте второго плотно прикрывало опущенное веко; помню, как, изо всех сил стараясь казаться непринужденным, он рассказывал нам фантастическую историю об огромной груде куапа, который валяется то ли заброшенный, то ли никому не известный на берегу острова Мордет среди побелевших, высохших мангров и черного солоноватого ила.
— Что это еще за куап? — спросил дядюшка, когда Нэсмит в четвертый раз произнес это слово.
— Аборигены называют его не то куап, не то куаб, не то куабб, — был ответ. — У нас с ними были не такие уж хорошие отношения, чтобы разобрать, как это произносится. Но там есть что взять. Они этого не знают. Никто не знает. Я добрался до этого гиблого места в пироге, один. Слуги не хотели туда плыть, а я сделал вид, что изучаю растительность…
В первую же минуту Гордон-Нэсмит попытался поразить наше воображение.
— Слушайте, — провозгласил он, входя, и плотно прикрыл за собой дверь. — Хотите вы двое выложить шесть тысяч, если вам подвернется случай заработать чистых полторы тысячи процентов годовых, — да или нет?
— У нас таких случаев сколько угодно, — сказал дядя; его сигара воинственно подскочила вверх, он протер очки и откинулся на стуле. — Мы предпочитаем верных двадцать.
У Гордон-Нэсмита был горячий нрав. Я понял это по тому, как он сдвинул брови и выпрямился, и поспешил вмешаться.
— Не верьте, — сказал я, прежде чем он успел вымолвить хоть слово. — Вы — это совсем другое дело, я про ваши книги наслышан. Мы очень рады, что вы пришли к нам. Черт побери, дядя! Ведь это Гордон-Нэсмит! Садитесь. Так что там? Минералы?
— Куап, — сказал Гордон-Нэсмит, уставив в меня свой единственный глаз. — Груды куапа.
— Груды, — негромко повторил дядя, и очки его, и всегда-то сидевшие криво, совсем перекосились.
— Вам бы только в бакалейной лавочке торговать! — презрительно бросил Гордон-Нэсмит, уселся и взял сигару из дядюшкиного ящика. — Зря я к вам пришел! Но раз уж я здесь… Так вот, прежде всего о куапе. Куап, сэр, — это самое радиоактивное вещество на свете. Вот что такое куап! Это охваченная разложением масса грунта, содержащего в себе тяжелые металлы: полоний, радий, торий, церий, — есть там и неизвестные элементы. В том числе штука, которая пока что называется «Икс-к». Из них там получилась сплошная каша, что-то вроде гниющего песка. Что это такое, как оно образовалось, я не знаю. Похоже, что там забавлялось какое-нибудь дитя исполина. Там две кучи — одна небольшая, другая — огромная, и на много миль вокруг все загублено, выжжено, мертво. Стоит вам туда прийти — и куап ваш. Вам остается его взять — только и всего.
— Выглядит недурно, — сказал я. — А есть у вас образцы?
— А как же! Можете получить сколько угодно, хоть две унции.
— Где они?
Он насмешливо и испытующе посмотрел на меня своим голубым глазом.
Некоторое время он курил и парировал мои вопросы, не вдаваясь в подробности, потом стал рассказывать более связно. Я слушал его и видел перед собой странный, забытый богом и людьми клочок атлантического побережья, длинные, извилистые протоки, которые разветвляются, расходятся во все стороны и несут тяжелый, вязкий ил и грязь в океан, и все это растворяется в грохочущем прибое и оседает на густо переплетенных водорослях, чьи мохнатые когти таятся в глубоких мерцающих водах. Там удушающая жара, тяжелый, недвижный воздух насыщен запахом гниющих растений, и вдруг зеленая стена расступается — и перед тобою кусок голой земли; по краю торчат иссохшие, белые, точно кость, стволы деревьев, до самого горизонта распахнулась яркая синь океана, ослепительно блещет прибой, и так пустынна эта мертвая полоса ила и грязной гальки и выбеленного солнцем, иссеченного волнами песка… Немного подальше, среди сожженных, мертвых трав, стоят пустые хижины на сваях, — пустые потому, что всякий, кто проведет здесь два месяца, обречен на смерть; его изгложет, как проказа, неведомый недуг. Навесы обрушились, столбы и доски, источенные червями, покосились, осели, но по настилу, хотя и не без риска, все еще можно пройти. И посреди всего этого, под нависшей, острой скалой, которая разрезает надвое мертвый берег, торчат, словно спины двух лежащих кабанов, две неуклюжие продолговатые кучи, одна небольшая, другая огромная, — это куап!