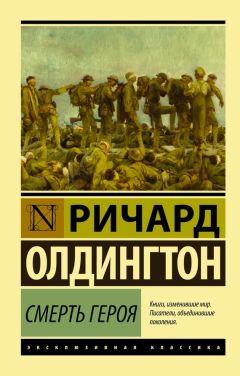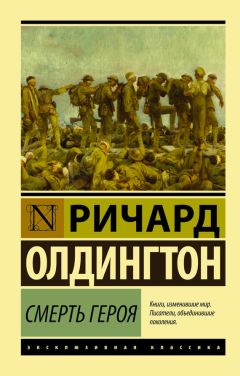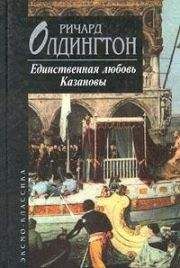Ричард Олдингтон - Смерть героя
Мозг одного человека не в силах вместить, память – удержать и перо – описать беспредельное Лицемерие, Ложь и Безумие, вырвавшиеся на простор во всем мире в те четыре года. Тут бледнеет самая буйная фантазия. Это было невероятно – должно быть, потому-то люди и верили. То была непревзойденная и трагическая вершина Викторианского Лицемерия, ибо, как ни говори, викторианцы в четырнадцатом году еще цвели пышным цветом и всем заправляли. И что же, сказали они нам честно; «Мы совершили безмерную, трагическую ошибку, мы вовлекли вас, всех и каждого, в страшную войну; ее уже не остановить; помогите же нам, а мы обещаем при первой возможности заключить мир, прочный и надежный»? Нет, ничего подобного. Они заявили, что им жаль нас терять, но идти драться – наш долг. Они заявили, что король и отечество нуждаются в нас. Они заявили, что заключат нас в объятия, когда мы вернемся (merci! Таковы плоды «Сердечного Согласия»?). Один из самых цивилизованных народов мира они назвали варварами, гуннами. Они изобрели «фабрики трупов». Они уверяли, что народ, который многие века славился своей добротой, – это народ палачей, которые только тем и занимаются, что убивают младенцев, насилуют женщин, распинают пленных. Они говорили, что «гунны» – это жалкие, подлые трусы, но не объяснили, почему же при нашем огромном численном превосходстве потребовался пятьдесят один месяц, чтобы разбить наконец германскую армию. Они говорили, что сражаются за Свободу во всем мире – и, однако, всюду стало куда меньше свободы. Они говорили, что не вложат Меч в ножны до тех пор, пока… и прочее, и прочее, и вся эта преступная, высокопарная болтовня именовалась верхом патриотизма… Они говорили… но к чему повторять все это? К чему продолжать? Это горько, очень горько. А потом они смеют удивляться, почему молодежь цинична, и разочарована, и озлоблена, и не признает никаких порядков и правил! И у них все еще есть приверженцы, которые все еще смеют что-то нам проповедовать! Живей! Поклонимся богиням Лицемерию и Бесстыдству…
Не знаю, понимал ли все это Джордж, мы с ним об этом никогда не говорили. В те дни очень много было такого, о чем из осторожности не говорилось: мало ли кто мог услышать и «доложить». Я и сам еще до вступления в армию дважды был арестован за то, что носил плащ, походил на иностранца, да еще смеялся на улице; в одном батальоне на мне долго тяготело серьезное подозрение, потому что у меня был томик стихов Гейне и я не скрыл, что побывал когда-то за границей; в другом батальоне, бог весть почему, заподозрили, что я не я, а какое-то подставное лицо. Но это пустяки, несравненно более тяжкие преследования вытерпел Д. Г. Лоуренс259, едва ли не величайший английский романист наших дней, человек, которым, несмотря на все его слабости, Англии следовало бы гордиться.
Зато я знаю, что Джордж безмерно страдал с первого дня войны и до ее последних дней, до самой своей смерти. Должно быть, он понимал весь ужас ханжества и разложения, так как говорил не раз, что теперь йэху260 всего мира вырвались на свободу и захватили власть – и он был прав, черт возьми! Не стану описывать безнадежное разложение, поразившее Англию в последние два военных года: во-первых, сам я почти все это время провел вне ее, а во-вторых, Лоуренс сделал это с исчерпывающей полнотой в своей книге «Кенгуру», в главе под названием «Кошмар».
В ту пору страданье стало общей участью всех порядочных людей, но для Джорджа все оказалось еще сложней и мучительней, потому что тягостно запутались его личные дела – и это было тоже как-то связано с войной. Не забудьте, он ведь не верил в «высокие идеалы», во имя которых якобы велась эта воина. В его глазах она была чудовищным бедствием или еще более чудовищным преступлением. Все эти разглагольствования об идеалах не убеждали. Не хватало elan261, убежденности, того пламенного идеализма, что вопреки всякому вероятию привел оборванные, необученные войска Первой французской республики к победе над соединенными силами королей Европы. Неотступно точило подозрение, что за всем этим кроется мошенничество и обман. Поэтому Джордж воевал без всякой веры и увлечения. С другой стороны, он понимал, что стать в позу исключительной личности, искать легкой славы мученика, отказывающегося подчиниться приказу, было бы отвратительным эгоизмом. Если он пойдет в армию, в громадном пожаре прибавится еще один уголек; если не пойдет, его заменят другим угольком, быть может, более слабым, которому физически будет труднее. Совесть мучила Джорджа, пока он не вступил в армию, – и не меньше мучила потом. Только одно утешало его: уж конечно на фронте тяжелее и опаснее, чем в тылу.
Признаться, я так до конца и не понял Джорджа. Он терпеть не мог говорить о своих затруднениях, но непрестанно мучился этими мыслями, и в голове у него все перепуталось. Его собственные тревоги каким-то образом сплелись с тревогой о судьбах вселенной – и, пытаясь определить свой взгляд на вещи, он вдруг заносился бог весть куда, толковал о греческих городах-государствах или о макиавеллизме. Его откровенная непоследовательность выдавала глубокий внутренний разлад. С самого начала войны он поддался неотвязным тревожным раздумьям, и чем дальше, тем сильнее овладевала им эта опасная привычка. Война и его, Джорджа Уинтерборна, к ней отношение, взаимоотношения с Элизабет и Фанни, повседневные мелочи военной службы – все тревожило его. Такая неотвязная тревога не бывает вызвана тем или иным событием, нет, это – душевное состояние, при котором любое событие превращается в повод для тревоги. Это форма неврастении, которая может поразить даже вполне здоровый дух после какого-то потрясения или непосильного напряжения.
И вот месяц за месяцем Джордж бесплодно терзался, даже не пытаясь одолеть эту грызущую тревогу.
Когда Элизабет в конце четырнадцатого года решила, что пора им с Реджи осуществить принципы Свободы, и, как полагается, сообщила об этом Джорджу, он тотчас согласился. Быть может, ему было так тошно, что эта новость оставила его равнодушным; или, может быть, он попросту честно исполнял уговор. Меня удивляет другое: почему он не воспользовался случаем и не сказал ей про Фанни. Но, видно, он ни минуты не сомневался, что Элизабет и так все знает. Поэтому он испытал новое потрясение, убедившись, что ничего она не знала, и еще больше потрясен был тем, как повела она себя, узнав правду. Когда дело касалось женщин, Джордж страдал каким-то помрачением ума. Он слишком их идеализировал. Однажды я довольно резко сказал ему, что Фанни, скорее всего, распутница, прикрывающаяся разговорами о «свободе», а Элизабет – узколобая обывательница, рассуждающая о «свободе», как рассуждала бы она о политико-эстетических взглядах Рескина и Морриса, доведись ей родиться поколением раньше, – и он очень рассердился. Он обругал меня дураком. Он заявил, что война сделала меня женоненавистником – и это, вероятно, правда. Я, видите ли, не понимаю ни Элизабет, ни Фанни, да и как мне понять двух женщин, которых я в жизни своей не видал, и откуда у меня такое нахальство, что я берусь объяснять их ему, ему, который так хорошо знает их обеих? Нет, мои суждения уж чересчур прямолинейны, упрощены и tranchant262, и я не понимаю (должно быть, и не могу понять) более тонких и сложных движений души человеческой. Он наговорил мне еще многое в том же духе, всего и не припомнить. Мы едва не поссорились, хотя были очень одиноки и каждый знал, что другого товарища у него нет. Это было в семнадцатом году, в офицерском учебном лагере, и нервы Джорджа были уже совершенно издерганы. После этой вспышки я уже не пытался выкладывать ему начистоту все, что думаю, и только всякий раз давал ему выговориться. Больше ничего и не оставалось. Его существование превратилось в двойную пытку: пыткой была война, пыткой стала и личная жизнь. Казалось, они безнадежно переплелись и перепутались между собой. Личная жизнь стала невыносимой из-за войны, а война – из-за разлада в личной жизни. Должно быть, чудовищно было напряжение, в котором он жил, – пожалуй, он и сам был в этом виноват. Но он был горд и потому молчал. Как-то, когда пришла моя очередь командовать курсантами, я повел роту на строевые учения. Джордж шел правофланговым в первой шеренге первого взвода, и я взглянул на него, проверяя, туда ли он идет, куда надо. Меня испугало его лицо – такое жесткое, застывшее в таком отчаянии, такое вызывающе страдальческое. В столовой, где мы сидели по шесть человек за столом, он почти никогда не вступал в разговор, – разве что, вежливости ради, выдавит из себя какую-нибудь ничего не значащую фразу или съязвит, но так туманно, что его мишень и не заметит насмешки. Пожалуй, он чересчур откровенно презирал грубые, непристойные разговоры о девках и гулянках, и ему явно претили казарменные остроты. И, однако, к нему не питали особой неприязни. Его попросту считали чудаком и оставляли в покое.