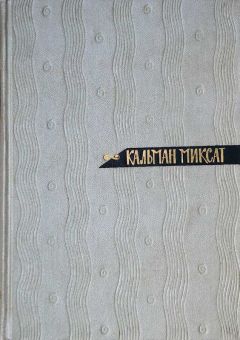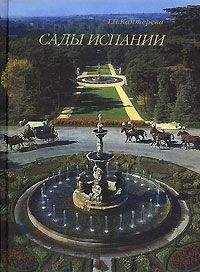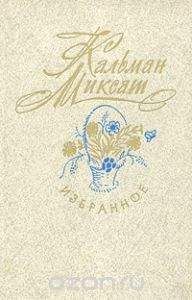Кальман Миксат - Странный брак
Огромное бревно с грехом пополам втаскивали в сени, посреди которых, против двери, Стояла печь. В нее совали один конец бревна и зажигали; люди грелись, варили пищу. Когда же часть бревна сгорала и превращалась в угли, его, насколько было возможно, запихивали глубже в печь. Так проходили дни, недели; медленно таял дуб-великан, подобно тому, как укорачивается карандаш у столяра.
Ясно, что, пока не сгорало почти все бревно, нельзя было закрыть наружную дверь дома, оно торчало через порог. Конечно, это было немного неудобно, но и распиливать да рубить тоже было не по душе крестьянину. И вот из этих двух зол он выбирал наименьшее — предпочитал не закрывать дверь. Во всяком случае, это стоило меньших усилий…
Перед домом стоит скамейка, во дворе под шелковицей еще одна, да к тому же то там, то здесь виднеется лавочка. Даже в будни на каждой скамейке, на каждой лавке сидит женщина в кокошнике; так и кажется, что наседки расселись.
Внутри, в доме, на высокой кровати в перинах нежится всю ночь и до позднего утра молодка. Над ней на веревках, спускающихся с чердака, висит люлька, а в люльке лежит маленький, это его колыбель. Стоит ему заплакать — никакой канители: толкнет мать ногой люльку, и та начнет качаться. Утомительное дело качать ее всю ночь, а так толкнуть можно и во сне. Если же люлька качнется слишком сильно, то ребеночек либо выпадет из нее, либо нет. Если не выпадет — хорошо, матери мало забот, а если даже и выпадет, то к ней на колени. Коли не выпадет, но примется плакать, то и на этот случай есть средство — нежная колыбельная песенка, которую в полусне напевает мать своему младенцу:
Спи же, крошка, баю-бай,
Поскорее засыпай.
Птичку бог принесет,
Клетку тятя собьет.
Мать тебя накормит, детка,
Янош-граф пришлет конфетку…
Давно выросли, а затем состарились и превратились в дряхлых, беззубых старух и седовласых стариков младенцы, которые в те поры грызли или сосали эту конфетку, а о "большом судебном процессе" они если и знают, то лишь по рассказам.
Но в свое время он взбудоражил всю страну, от Вены до Мункача. Даже в чужих дальних краях, в Брашове и иных местах, женщины, возвращаясь из церкви, толковали о процессе: "Чем же все это кончится?"
Протестанты и католики, попы и горожане, знатные и незнатные господа — все разделились на два лагеря; страна следила за процессом, словно за событиями какой-нибудь драмы, от развязки которой зависело состояние посевов.
Когда умер Иосиф II, то, несмотря на строжайший надзор, чья-то безбожная рука (полиция так и не сумела доискаться, кто это сделал) наклеила на саркофаге отпечатанный в типографии пасквиль, две последние строчки которого звучали так:
Монаршья голова и сердце не умрут: Они из камня ведь, а камни не гниют.
Воистину, это так! Все опасались того, что не умрут традиции Иосифа, столь они были еще свежи.
Церковь оберегала себя и старалась не допускать огласки своих дел. Лучше уж замазать поповские грехи, чем обнажить их, ибо ошибки и промахи отдельных лиц могли бы повредить всему духовенству. Сильные мира сего склонны были делать выводы, основанные на ложных посылках. Сатирические картины того времени недаром изображали Иосифа II с двумя сумками на шее: в одной было духовенство, а в другой — венгерская конституция. Монарх, размахивая руками, по очереди бил то по одной из них, то по другой.
Светские тузы до того привыкли к такому поведению Иосифа, что и после его смерти, когда он навечно оставил изрядно поколоченные сумки, всегда испытывали сильный испуг, если кто-нибудь касался одной из них, словно боясь, что тотчас же придет черед и другой. На самом же деле в одной сумке был рак, а в другой дрожжи, вещи, как известно, совершенно между собой не связанные.
Все равно. Светская знать пришла к мудрому решению, что дело о венчании в Рёске нужно вести с большим тактом.
…Ах, этот такт! Он всегда как назойливая собака, которая у нас в стране вечно путается под ногами истины.
Невидимые руки пришли в движение. Кто знает, как и откуда, но внезапно целые полчища всевозможных посредников, словно стаи саранчи, двинулись одни — в Патак, другие — в бозошский замок.
Интимному другу эрцгерцогини Марии-Луизы, пользовавшейся большим влиянием при дворе, могущественному графу Ференцу Зичи пришло вдруг в голову, что он, собственно говоря, приходится сродни Иштвану Фаи, а посему следует во главе всего семейства нанести ему родственный визит. Когда они сидели в курительной комнате, граф Зичи обмолвился Фаи, что ее светлость эрцгерцогиня Мария-Луиза была бы рада услышать о том, что он, Фаи, готов повлиять на графа Бутлера и уговорить его помириться с женой, вместо того чтобы компрометировать знатные роды и подрывать престиж церкви.
— Но, дорогой мой Ференц, она ведь не жена ему, — возразил Фаи с кислой миной.
— Вот именно. Пусть он признает ее своей женой!
— А если он ее не любит?
— Эх, неужели он не может совладать с собой, если этого требуют общественные интересы?
— Какие же это общественные интересы?
— Мир и спокойствие в обществе, доверие к церкви, которое никак нельзя подрывать у верующих.
— Но если он все-таки любит другую?
— Ах, оставь! Эти рассуждения достойны сапожника, который берет себе в жены какую-нибудь Жофику, и она после этого становится его вьючным животным, его усладой, служанкой, другом, спутницей жизни и советником! Конечно, он держится за ту, которую однажды выбрал себе. Другое дело — дворянин, такой большой магнат, как Бутлер. Жена нужна ему лишь для того, чтобы появляться с ней в свете. А для этого необходимо, чтоб на ней хорошо сидело платье, что же касается любви — бог мой, ведь сколько цветов распускается на белом свете! И пусть Бутлер срывает тот из них, к которому его влечет.
Все это было подано сиятельным Ференцем Зичи под соответствующим соусом, причем особо было подчеркнуто, что в случае благоприятного разрешения вопроса Фаи будет удостоен высокой награды. При этих словах хозяин дома еще сильнее помрачнел; он становился все менее разговорчивым, пока, наконец, не умолк совсем. При прощании Зичи еще раз спросил:
— Так что же все-таки передать эрцгерцогине? Что я должен сказать ей?
— Передай, что я сапожник!
В то же самое время графа Яноша Бутлера посетил в Бозоше граф Антал Мозеш Цираки, ставший впоследствии председателем верховного суда, влиятельнейшей персоной при венском дворе, любимцем императрицы Людовики. Дело изображалось так, будто он поехал в Унт на охоту к графу Шёнборну. Однако, как остроумно заметил один из охотников, Дёрдь Лоняи, "граф прибыл охотиться на кабанов, а хочет убить голубя". Потому что из Унга Цираки направился в Бозош, где познакомился и сдружился с Яношем Бутлером, в течение двух недель развлекался у него, с хитростью заправского дипломата увещая своего нового друга не страдать по Пирошке и оставить все дело так, как оно есть. Случаю угодно было, чтобы одновременно в тех же местах проездом оказался и его преосвященство трансильванский епископ Шандор Руднаи, который ночной порой заехал в бозошский замок, где, опять-таки случайно, встретился со своим любезнейшим другом и школьным товарищем графом Цираки. Тут уже за дело взялся и епископ, и они вдвоем повели разговоры с графом Яношем, а граф склонялся то в ту, то в другую сторону, напоминая собой молодую яблоню, крона которой гнется под сильными порывами ветра.
И все-таки уговоры оказались бесплодными, ибо гнется яблоня, ломаются ее ветки, опадает листва, но есть нечто, чего никак не удается изменить: цветы ее по-прежнему остаются розовыми…
Однако — увы! — и этим дело не кончилось. Невидимая рука перепробовала все. Графу Яношу предлагали высокий пост унгского губернатора — но какой ценой! И он отказался.
Тогда же случилось, что молодой граф Пал Шёнборн, обычно проживавший в Вене, выехал вместе с женой на лето в свой унгский замок. Они привезли с собой известную в ту пору актрису Эржебет Кларетон, которую император называл своей "милой кошечкой". Мадемуазель Кларетон учила якобы петь графиню Шёнборн. Супруги Шёнборн, конечно, пригласили к себе Бутлера, и мадемуазель Кларетон смертельно влюбилась в него, в чем эта очаровательная обольстительница с фигурой лесной феи и призналась ему, целомудренно зардевшись, при второй же встрече в парке; третья встреча не состоялась, так как граф Бутлер отклонил приглашение супругов Шёнборн.
Все это расценивалось "сторонниками Пирошки" как хороший знак. Старый Фаи, приезжая в Бозош "на вареники", как он обычно говаривал, — ибо тетушка Капор, уже было похороненная доктором Гриби, по-прежнему готовила их для Фаи, — весело рассказывал о всех этих искушениях.
— Они чувствуют, что суд каноников расторгнет брачные узы, иначе они не вели бы себя так нагло. Хотел бы я только гнать, кто стоит за этими ходатаями и направляет их? Дёри? Он недостаточно силен для этого. Иезуиты? Возможно! Во всяком случае, кто-то тут скрывается. Мы видим лишь перья павлина, саму же птицу не видим.