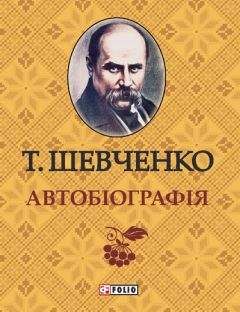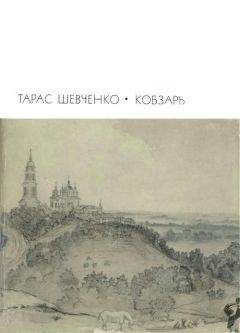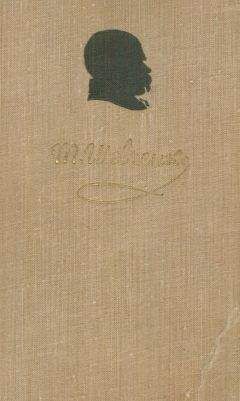Тарас Шевченко - Повести
— Мозно, для ца не мозно! — сказала она протяжно.
Он взошел на двор и хотел было в избу зайти, но на него из дверей пахнуло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут. А между тем вышла к нему на улицу та самая заспанная грязная молодка и, щелкая арбузные семечки, смотрела… или. лучше сказать, ни на что не смотрела. Он повел к ней такую речь:
— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить!
— Да рази я стряпка какая?
— Ну, хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом: чай, рыбы пропасть?
— Нетути. Мы ефтим не занимаемся.
— Чем же вы занимаетеся?
— Бакци сеем.
— Ну, так сорви мне пару огурчиков.
— Нетути, мы только арбузы сеем.
— Ну, а еще что сеете? Лук, например?
— Нетути. Мы лук из городу покупаем!
— Вот те на! — подумал он: — деревня из города зеленью довольствуется.
— Что же вы еще делаете?
— Калаци стряпаем и квас творим.
— А едите что?
— Калаци с квасом, покаместь бакца поспееть.
— А потом бахчу?
— Бакцу.
— Умеренны, нечего сказать, — и он замолчал, размышляя о том, как немного нужно, чтобы сделать человека похожим на скота. А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают и… И он не додумал этой тирады: извозчик прервал ее, сказавши:
— Лошади, барин, отдохнули.
— А, хорошо! Закладывай, — поедем.
И пока извозчик затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилася и, расстилаясь по улице, заслонила и ворота, и стоящую у ворот молодку.
С тех пор он не выезжал уже из Оренбурга аж до тех пор, пока ему в одно прекрасное апрельское утро не объявили, что он командируется с транспортом на Раим.
О, как живописно описал он это апрельское утро в своем дневнике! Он живо изобразил в нем и не виданную им киргизскую степь, уподобляя ее Сахаре, и патриархальную жизнь ее обитателей, и баранту, и похищения, словом, всё, что было им прочитано — от "П. И. Выжигина"68 даже до "Четырех стран света"69, - решительно всё припомнил.
Отправивши субботний учетверенный листок на почту, явился куда следует по службе, и на другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал:
— Позвольте узнать чин и фамилию и куда изволите следовать?
Из воротника шинели довольно грубые вылетели слова:
— Лекарь Сокира в Орскую крепость. Подвысь!70 — Пошел!
И тройка понеслася через форштат мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встащил две пушки, осаждая Оренбург.
До станицы Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то когда хотелося пить, но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика:
— Здесь тоже оренбургские козаки живут?
— Тоже, ваше благородие, только что хохлы.
Он легонько вздрогнул.
— А почтовая станция здесь?
— Дальше, в Озерной.
— Там тоже хохлы живут?_ _
_- _Нет-с, наши русские.
Подъезжая ближе к селу, ему, действительно, представилась малороссийская слобода: те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.
У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призбе усача, можно ли будет ему переночевать у них?
— Можна, чому не можна; Мы добрым людям ради.
Он отпустил ямщика и остался ночевать.
Здесь он впервые в Оренбургском крае отвел свою душу родною беседою, а чтобы больше оживить несловоохотного (как и вообще земляки мои) хозяина, то он спросил, чи есть у них шинок?
— Шинку-то у нас, признаться, нема, а так люды добри держать про случай.
Он послал за водкою, попотчевал хозяина и хозяйку, а маленькому Ивасеви дал кусочек сахару.
Хозяин стал говорливее, хозяйка проворнее заходила около печки с чаплиею. Только один Ивась стоял, воткнувши в рот пальцы вместе с сахаром, и исподлобья посматривал на гостя.
Не замедлили цыплята закричать за хатою и также не замедлили явиться на столе с парою свежепросольных огурцов к услугам гостя.
— Закушуйте, будьте ласкави, — говорила хозяйка, ставя на стол цыплят, — а я тымчасом побижу до Домахи, чи не позычу з десять яєць, а то в нас, признаться, вси выйшлы.
И она проворно вышла из хаты.
На другой день поутру хозяин нанял ему пару лошадей до станции, а догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросольных огурцов. Принимая всё это, он спросил, что он им должен за всё.
— Та, признаться, нам бы ничего не треба, та думка та, що треба б дытыни чобитки купыть.
Он подал ей полтинник.
— Господь з вамы, та ему и за грывеннычок Вакула пошие.
— Ну, там соби як знаешь, — сказал он и простился со своими гостеприимными земляками.
Переночевал он еще в Губерле (предпоследняя станция перед Орской крепостью), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день Губерлинскими горами. На другой день перед вечером он был уже в виду Орской крепости.
Вот как он рассказывает в своей «Мухе» впечатление, произведенное видом этой крепости.
"29 апреля. До 12 часов я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых козачьих хат. Пообедавши остатками подарка моей догадливой землячки, я оставил живописную Губерлю. Несколько часов подымался я извилистой дорогою на Губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня, а среди пустыни торчит одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою. Это козачий пикет. Проехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной. Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.
— А вот и Орская белеет, — сказал ямщик, как бы про себя.
— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалося грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастие ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалася мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо. В Губерле я был совершенно счастлив, вспоминал вас, мои незабвенные, воображал себе, как Степан Мартынович читает Тита Ливия под липою, а батюшка, слушая его, делает иногда свои замечания на римского витию-историка, и вдруг такая перемена! Неужели так сильно действует декорация на воображение наше? Выходит, что так. Подъезжая ближе к крепости, я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости, и готов был бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе по широкому, едва зеленью подернутому лугу, я ясно уже мог различать крепость: белое пятнышко — это была небольшая каменная церковь на горе, а краснобурая лента — это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов и прочая.
Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною вышиною, а с четвертой стороны — Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яман-кала. По-моему, это самое приличное ей название. И на месте этой Яман-калы предполагалося когда-то основать областной город! Хорош был бы город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменых колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты. Проезжая тихо мимо марширующих солдат, мне резко бросился в глаза один из них: высокий, стройный, и — странная игра природы! — чрезвычайно похож на брата Зосю. Меня так поразило это сходство, что я целую ночь не мог заснуть, создавая разные самые несбыточные истории насчет брата; да еще вонючая татарская лачуга, отведенная мне в виде квартиры, окончательно разогнала мой сон.
30 апреля. С больною головою явился я сегодня к коменданту, а от него пошел познакомиться к собрату по науке. Собрат по науке показался мне чем-то вроде жердели спелой и после обоюдных приветствий сказал мне, в виде комплимента, что я чрезвычайно похож на одного несчастного, недавно сюда присланного из Астрахани. Я спросил его, что значит слово «несчастный». Он пояснил мне, и я, простившись с ним, пошел искать баталионную канцелярию. В канцелярии у писаря спросил я, нет ли в их баталионе недавно присланного рядового Зосима Сокирина. Писарь отвечал: Есть, — и, взглянувши мне в лицо, прибавил: — Зосим Никифорович.