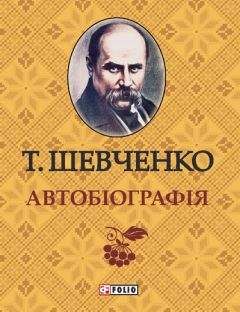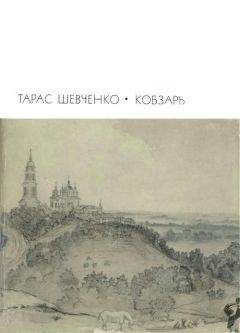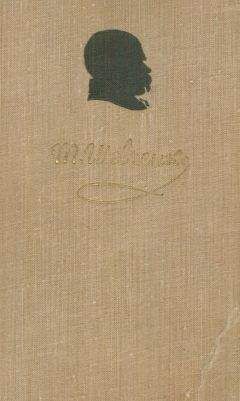Тарас Шевченко - Повести
Подходя к дому, Прасковья Тарасовна заметила беду Карла Осиповича и лошадь почти в мыле, а когда у такого хорошего хозяина, каков Карл Осипович, лошадь в поту, то это значит, что что-нибудь да не так. Только что она успела подумать это, как увидела из пасики скоро идущего Никифора Федоровича, — только борода белая ветром развевается, а Карл Осипович за ним в своем синем фраке с металлическими и без всякого изображения пуговицами. Завидя свою Парасковию, Никифор Федорович вскрикнул обрадованно:
— Параско! — и при этом поднял правую руку, и она ясно увидела письмо в руке и тоже вскрикнула.
— От которого?
— От Вати, из самого Оренбурга. Прасковья Тарасовна на минуту как бы онемела, а Карл Осипович, поздоровавшись, спросил, ни к кому собственно с вопросом не обращаясь:
— Что, месяца два будет, как выехал?
— На пречисту буде сим недиль, — ответила Прасковья Тарасовна.
— Скоренько, право, скоренько, — говорил он скороговоркою. — Я не думал так скоро. Хорошо, очень хорошо!
И все они взошли на крыльцо. Никифор Федорович пошел к себе в комнату за окулярами и тут же послал Марину за Степаном Maртыновичем: — Чтоб шел, скажи, скорее письмо читать: от Вати, скажи, получили. — Не успел он протереть в очках стекла и выйти на ганок, как Степан Мартынович уже переправлялся через Альту. Удивительная быстрота.
Когда все уселися по своим местам, Никифор Федорович вооружил свои старые очи окулярами, вскрыл письмо, развернул его и, легонько прокашлявшись, начал читать:
"Мои незабвенные, мои дражайшие родители!" Голос Никифора Федоровича задрожал, и он стал жаловаться, что очки его совершенно ослабели или просто запылились, так что и письмо читать нельзя, почему он и передал его Карлу Осиповичу, прося прочитать неторопко. Карл Осипович в свою очередь вооружился очками и вместо того, чтобы кашлянуть, он понюхал табаку и начал:
"Мои незабвенные, мои дражайшие родители!" Никифор Федорович затаил дыхание, а Прасковья Тарасовна превратилась вся в слух и даже слез не утирала. Карл Осипович продолжал:
"Целую заочно ваши добродетельные руки и молю бога жизнедавца, да продлит он вашу драгоценную для меня жизнь. В продолжение дороги и здесь на месте я постоянно, слава богу, пользуюся хорошим здоровьем, только всё еще как-то чудно, ни к кому и ни к чему еще не присмотрелся. Еще и недели не прошло со дня пребывания моего здесь. Простите мне великодушно, мои незабвенные родители, я хотел было писать вам на другой же день, но за хлопотами никак не успел: нужно было явиться по начальству, то то, то сё так неделя и пролетела. Теперь же я, слава богу, поуспокоился, нанял себе маленькую, о двух комнатах квартиру, как раз против госпиталя в Старой Слободке. Вчера я был дежурным, а сегодня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его всуе, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что и писать нечего, что всё пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько. Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи.
Переправясь через Волгу, я в Самаре только пообедал и сейчас же выехал, и после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылася степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами.
В первые три переезда показывались еще кой-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи по берегам речки Самары. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы, а около их багажа шляются в четырехугольных красных шапочках, наподобие кучерских, безобразные калмычки с грудными детьми на плечах, совершенно цыганки, только что не ворожат. Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта, и, любуясь этим величественным горизонтом, я незаметно въехал в Татищеву крепость64. Я отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице и, пока переменяли лошадей, я припоминал "Капитанскую дочку", и мне как живой представился грозный Пугач65 в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне — совершенно наш старинный палач. Солнце только что закатилось, когда я переправился через Самару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание, недавно воздвигнутое по рисунку А. Брюллова66, называется здесь Караван-сарай. Проехавши Караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие сакмарские ворота, в [которые] я и въехал в Оренбург.
На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное, но наружность иногда обманчива бывает, и я лучше сделаю, если не буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюся. Я намерен вести здесь дневник и посылать к вам по листочку каждую неделю, вы и будете видеть меня как бы перед собою, прочитывая мои листочки. А пока простите меня, что я не пишу вам о себе подробнее. Поклонитеся Карлу Осиповичу и скажите Степану Мартыновичу, что я люблю его великую душу всем сердцем моим и всем помышлением моим. Целую ваши благодатные руки, мои незабвенные, мои бесценные родители. Не забывайте вечно любящего вас сына Ватю".
Прочитавши письмо, Карл Осипович бережно сложил и, подавая его Никифору Федоровичу, проговорил: — Прекрасный молодый человек. — А тот принял молча письмо, поцеловал его, положил в лежащую на столе летопись Конисского и молча сошел с крылечка. Прасковья Тарасовна молилась богу и плакала, а Степан Мартынович, глубоко вздохнувши, призадумался и, надумавшися досыта, встал со скамьи и мигнул глазом Карлу Осиповичу, давая знать, что он что-то важное выдумал, а, отведши его в сторону, говорил ему шопотом:
— Я по себе знаю, как я странствовал в Полтаву, как трудно на чужой стороне без грошей, а он теперь, я добре знаю, что нуждается. А что он не просит, то это ничего. Я прошлого года продал немного воску и меду московским купцам. Школа меня кормит и одевает, а деньги гниют, как талант, в землю зарытый. Пошлю я ему мое достояние. Как вы скажете, послать?
— Нет, подождите, — говорил тоже шопотом Карл Осипович. — Если у вас есть лежачие деньги, то на них можно найти лучшую дырочку.
Они расстались.
Переправившись через Альту, Степан Мартынович не пошел в школу, чтобы школяры не помешали ему думать, какую дырочку нашел Карл Осипович его деньгам? Думал он лежа, и сидя, и стоя в своей пасике до самого вечера и все-таки не мог придумать, что бы это за дырочка могла быть? Дело в том, что Карл Осипович получил из Астрахани два письма в одном конверте: одно на свое имя, а другое на имя сотника Сокиры, если он жив еще, или же на имя Прасковьи Тарасовны.
Зося в письме своем Карлу Осиповичу описывал в общих выражениях свое горестное положение и просил, если старики здравствуют, то чтобы он улучил добрый час, вручил бы им письмо и сам ходатайствовал о добром их к нему расположении, то есть просил бы о присылке денег. В случае же отказа он просто в петлю полезет.
Карл Осипович хорошо знал, что письмо Зоси не понравится Никифору Федоровичу, и потому раздумал его даже и показывать ему, а [решил] прочитать его одной Прасковье Тарасовне и Степану Мартыновичу и общими силами сложиться и послать на выручку бедному Зосе. На эту-то дырочку и намекал он недогадливому Степану Мартыновичу.
Случай не замедлил представиться прочитать письмо Зоси наедине, именно, когда Никифор Федорович, по обыкновению, отдыхал в пасике после обеда. Письмо было такого нехитрого содержания:
"Великодушные мои родители!
Четыре года я находился в плену у немилосердых горцев и, наконец, щедротами великодушных людей освобожден из оного и теперь нахожусь в г. Астрахани в крайнем положении. По случаю расстроенного на службе здоровья, я хлопочу теперь себе отставку, хоть с третью жалованья. А пока не оставьте вашего покорного сына, пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду вам вечно благодарен. Остаюся ваш несчастный сын Зосим Сокирин. Карл Осипович знает мой адрес".
Прасковья Тарасовна не дослушала письма, ахнула и грохнулась на пол. Карл Осипович засуетился около нее, а педагог мой тоже ахнул при виде сей трагедии, да так и остался с разинутым ртом до тех пор, пока не очнулась Прасковья Тарасовна. Простак! Он совершенно незнаком был с сими женскими слабостями. Придя в себя, Прасковья Тарасовна вскрикнула:
— Зосю мой, дитя мое! — и снова упала без чувств. Педагог начал было делать проект на улыбку, но не. успел и остался при прежнем выражении. Прасковья Тарасовна снова пришла в себя и попросила воды, прошептала что-то и зарыдала, бедная, как малое дитя. К этому времени Никифор Федорович, отдохнувши в пасике, пришел в светлицу, чтобы попросить напиться у Прасковьи Тарасовны яблочного кваску, который они на прошлой неделе только почали, но, увидя сидящую на полу и неутешно рыдающую свою Парасковию, спросил у предстоящих о причине такого горького рыдания. Карл Осипович рассказал ему несколькими словами содержание всей трагедии и подал ему роковое письмо, а тот, вооружившись очками, медленно и внимательно прочитал его и так же медленно сложил и, подавая Карлу Осиповичу, сказал: — Бреше! — но так тихо, что Прасковья Тарасовна не могла слышать. Карл Осипович был почти такого же мнения, тем более, что Зося в письме своем к нему ни слова не говорит о своем плене у бесчеловечных горцев, но на сей раз не высказал своего мнения, а только почесал нос и понюхал табаку. — Неужли он, — доннер-веттер! — вздумал употребить его, почтенного старца, орудием своей гнусной лжи? — так или почти так думал простодушный добряк.