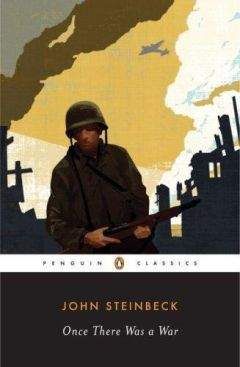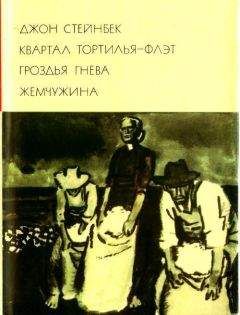В битве с исходом сомнительным - Стейнбек Джон Эрнст
– Как просто! – вздохнул Бертон. – Хорошо бы и я мог считать, как все просто и ясно. – И он с улыбкой повернулся к девушке: – А ты как полагаешь, Лайза?
Она встрепенулась:
– Что?
– Спросить тебя хочу, что тебе надо было бы для счастья?
Она застенчиво потупилась, глядя на ребенка.
– Мне бы корову, – сказала она. – Я бы такую хотела, чтоб масло и сыр самой делать.
– Эксплуатировать корову хочешь?
– Что?
– Это я так, дурачусь. А у тебя была когда-нибудь корова, Лайза?
– В детстве, когда я маленькой была, мы держали корову, – ответила девушка. – Дед доил ее вроде как в чашку большую. И мы пили молоко. Оно теплое было на вкус. Вот это я бы хотела. И для ребенка это хорошо. – Док отвернулся от нее, а она все продолжала: – Корова траву ела, а иногда сено. Не всякий умеет коров доить. Они брыкучие.
– А у тебя была корова когда-нибудь, Джим? – спросил Бертон.
– Нет.
– Вот никогда мне не приходило в голову, что корова – это контрреволюционный элемент, – заметил Бертон.
– Что ты такое несешь, док!
– Ничего. Должно быть, это потому, что мне грустно. В войну я в армии был. Сразу же, как отучился. И вот приносят одного из наших. Пулей грудь пробита, а потом доставили немца. Большеглазый такой. Ноги раздроблены. Я им раны обрабатывал, ворочал их, что чурки деревянные. А после, когда работа кончалась, иногда такая тоска нападала, так грустно становилось, вроде как сейчас. Грустно и одиноко.
– Надо держать в голове только конечную цель, док, – сказал Джим. – В результате нашей борьбы родится что-то очень хорошее. А значит, бороться стоит.
– Знаешь, Джим, я бы очень хотел так думать. Но мой маленький опыт подсказывает мне, что конечная цель по самой сущности своей неотделима от средств, которыми она достигается. И насилие, черт его дери, может породить одно лишь насилие.
– Не верю я в это, – возразил Джим. – Все великое рождается из насилия и прибегает к нему в начале.
– Не бывает никогда никакого начала, – сказал Бертон. – И конца не бывает. По-моему, человек занят лишь одним – слепой и страшной борьбой за то, чтобы вырваться из прошлого, которое он не помнит, и достигнуть будущего, которое он не умеет ни предвидеть, ни понять. И на этом пути он встречает и преодолевает любые препятствия, кроме одного – себя самого. Себя он победить не может. И как же ненавидит себя человечество.
– Мы вовсе не себя ненавидим, – сказал Джим. – Мы ненавидим капитал, который нас угнетает!
– Противники ваши – тоже люди, Джим. Такие же, как вы. А человек себя ненавидит. Психологи утверждают, что самолюбие человека уравновешивается его ненавистью к себе. И это касается всех людей и всего человечества. Мы боремся с собой, а победить можем, лишь убивая других. Я одинок, Джим. И нет у меня ничего, что мог бы я ненавидеть. Что ты надеешься получить в конце, Джим?
Вопрос ошарашил Джима.
– Ты спрашиваешь про меня? – Он ткнул себя пальцем в грудь.
– Да. Про тебя. Чем закончится для тебя вся эта заварушка?
– Не знаю. И мне это не важно.
– Ну а если, предположим, у тебя из-за твоего плеча начнется заражение крови или ты помрешь от столбняка, а забастовка будет подавлена. Что тогда?
– Это не важно, – упрямо гнул свое Джим. – Было время, когда я думал то же, что и ты, док, но сейчас мне все это не важно.
– Как же ты стал таким, Джим? – спросил Бертон. – Как к этому пришел?
– Не знаю. Раньше я был одинок, а теперь – нет. Если и помру – это не важно. Все равно борьба не кончится. Я лишь малая часть ее. А она будет все расти и расти. Эта боль в плече мне даже по-своему приятна. И держу пари, что Джой перед смертью пережил минуту счастья. Был у него момент, когда он был счастлив.
Снаружи донеслись звуки – бубнящий хриплый голос, чьи-то выкрики, и вдруг сердитый рев толпы, похожий на рев разъяренного зверя.
– Лондон им рассказывает, – заметил Джим. – Они в бешенстве. Толпа может обезуметь так, что самый воздух наполнится безумием. Тебе этого не понять, док. Мой старик дрался в одиночку. Когда его избивали, то избивали только его, и он был как побитая собака. Я помню, каким одиноким он тогда выглядел. А я вот больше не одинок, и избить меня нельзя, потому что я – это больше, чем я!
– В чистом виде религиозный экстаз! Понимаю! Похоже на совместное причастие кровью Агнца.
– При чем тут религия, черт побери! – завопил Джим. – Речь идет о людях, а не о Боге! Это-то ты способен понять?
– Разве не может сообщество людей стать Богом, а, Джим?
Лицо Джима скривилось, все тело его выразило страдание.
– Ты очень много умных слов говоришь, док! Строишь ловушку из слов и сам же в нее попадаешь! Но меня тебе в ловушку не поймать, я знаю, что делать. Слова твои для меня – пустой звук, и поколебать меня они не могут!
– Да успокойся ты, – ласково произнес Бертон. – Не кипятись! Зачем так волноваться! Я же вовсе не спорю. Но я хочу разобраться в фактах, мне нужна информация, а вы все моментально в бутылку лезете, если задать вам вопрос!
По мере того как сумерки переходили в ночную тьму, лампа, казалось, увеличивала яркость, а желтый свет ее начинал проникать все глубже, постепенно захватывая даже самые дальние углы палатки.
Мак вошел незаметно, словно ускользая от шума и криков вокруг.
– Парни озверели совсем, – сообщил он. – И опять есть хотят. На ужин фасоль с мясом отварным будет. Я так и знал, что от мяса они распетушатся. Требуют теперь приказа выступить и жечь усадьбы.
– Что там на небе? – спросил Бертон. – Дождик опять не намечается?
– Нет. Прояснилось, и звезды светят. Погода обещает быть хорошей.
– Мне надо поговорить с тобой, Мак. У меня препараты на исходе. Очень нужно дезинфицирующее средство. И салварсан [13] тоже лишним не будет. Любая эпидемия для нас гибель.
– Да знаю я, – сказал Мак. – Я уже послал в город весточку о том, как обстоят дела. Парни рыщут в поисках денег. Дейкина из тюрьмы хотят перво-наперво вызволить. По мне, так пускай бы он посидел пока – ничего страшного.
Бертон поднялся с тюфяка.
– Ты ведь можешь указывать Лондону, как и что делать, правда? А на Дейкина все деньги не уйдут.
Мак окинул его внимательным взглядом:
– Что с тобой, док? Плохо себя чувствуешь?
– В каком смысле?
– В смысле перемены настроения. Вид у тебя усталый. Что стряслось, док?
Бертон сунул руки в карманы.
– Не знаю. Наверно, это от одиночества. Я ужасно одинок. Работаю в одиночку, а зачем работаю – сам не знаю. Остальные хотя бы ради денег стараются и за компанию. Как бьются сердца, я только через стетоскоп слушаю, а вы все это в воздухе улавливаете.
Он вдруг наклонился и, взяв Лайзу за подбородок и приподняв голову девушки, поймал ее застенчиво убегающий от него взгляд. Рука Лайзы медленно поднялась, легонько потянула Бертона за кисть, отводя его руку. Он отпустил ее, и рука его опять вернулась в карман.
– Надо бы познакомить тебя с какой-нибудь женщиной, док, – сказал Мак, – но в таких делах я тебе не помощник. Я человек приезжий, никого тут не знаю. Дик мог бы тебя направить. За ним небось баб двадцать увивается – в очередь выстроились! К тому же тебя могут поймать и засадить в тюрьму, а без твоего контроля нас отсюда в два счета вышибут.
– Иной раз ты понимаешь все так тонко, Мак, – сказал Бертон, – даже слишком тонко, а иной раз – ничего не понимаешь. Думаю, схожу-ка я Эла Андерсона навещу. Целый день у него не был.
– Ладно, давай сходи, если это тебе настроение улучшит. А за Джимом я пригляжу.
Док, бросив последний взгляд вниз, на Лайзу, вышел.
Крики снаружи смолкли, перейдя в негромкие разговоры. Ночь дышала голосами.
– Док ничего не ест, – сокрушенно заметил Мак. – И чтобы спал он, тоже что-то не видно. Думаю, не выдержит он, сломается – раньше или позже. Очень ему женщина нужна, такая, чтобы любила его ночью, искренне любила, ну, ты понимаешь. Ему надо чувствовать, что кто-то рядом есть, кожей чувствовать. Да и мне это нужно тоже. Ты, маленькая негодница, счастливый человек: у тебя малый твой есть. Да и я к тебе неровно дышу, околдовала ты меня!