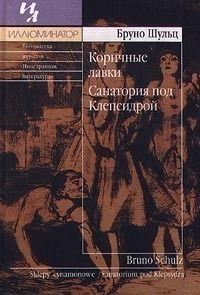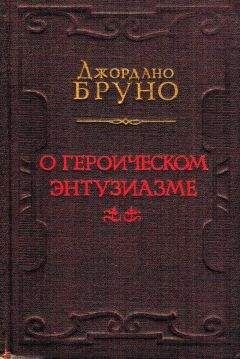Бруно Шульц - Трактат о манекенах
Если бы не ресторан и кондитерская в городе, можно было бы умереть с голоду. До сих пор мне так и не удалось выпросить вторую кровать. О чистом постельном белье и речи нет. Надо признаться, что мы и сами стали понемножку забывать привычки, свойственные культурным людям.
Для меня как человека цивилизованного лечь в постель в одежде и обуви раньше было просто немыслимо. А теперь поздней ночью я прихожу домой пьяный от сонливости, в комнате полумрак, занавески на окне вздуваются от холодного сквозняка. Почти в полном беспамятстве я валюсь на кровать и закапываюсь в перины. И сплю неопределенное время — то ли целыми днями, то ли неделями, — странствуя по пустым ландшафтам сна, неизменно в пути, неизменно на крутых дорогах дыхания, то легко и упруго съезжая по плавному склону, то вновь с трудом карабкаясь по отвесной стене храпа. А достигнув вершины, объемлю взором огромные окоемы глухой, скалистой пустыни сна. И вдруг неведомой порой, в неведомом месте, где-то на резком повороте храпа просыпаюсь в полусознании и чувствую в ногах тело отца. Он лежит, свернувшись клубочком, маленький, как котенок. Я опять засыпаю с открытым ртом, и мимо меня волнисто и величественно опять проходит гигантская панорама горного пейзажа.
В лавке отец развивает оживленную деятельность, ведет переговоры, использует все свое красноречие, убеждая клиентов. Щеки его горят от возбуждения, глаза блестят. В Санатории он лежит тяжело больной, точь-в-точь как дома в последние недели. Трудно скрывать, что процесс семимильными шагами приближается к фатальному концу. Слабым голосом он говорит мне:
— Иосиф, ты должен чаще заглядывать в лавку. Приказчики нас обкрадывают. Ты же видишь, я уже не могу справляться с делами. Неделями лежу тут больной, а лавка гибнет, брошенная на произвол судьбы. Не было ли каких-нибудь писем из дому?
Я начинаю сожалеть, что мы ввязались в это предприятие. Да, трудно назвать удачным наше решение отправить отца сюда — решение, которое мы приняли, соблазненные шумной рекламой. Отодвинутое время… звучит это, надо сказать, красиво, а что же на самом деле? Получает ли он тут полноценное, подлинное время, так сказать, отмотанное со свежего рулона, пахнущее новизной и краской. Ничуть не бывало. Это до конца использованное, изношенное людьми время; время вытертое, во многих местах дырявое, прозрачное, как сито.
Так что нет ничего удивительного в том, что это — прошу правильно меня понять! — как бы вытошненное время, время из вторых рук. Противно даже говорить…
И притом все эти бестактные махинации со временем.
Безнравственные манипуляции, когда сзади залезают в его механизм, ковыряются пальцами совсем рядом с его щекотливыми тайнами! Порой страшно хочется стукнуть кулаком по столу и заорать во все горло: «Довольно! Руки прочь от времени! Время неприкосновенно, его нельзя провоцировать! Разве недостаточно вам пространства? Пространство — оно для человека, можете сколько угодно порхать в нем, скакать, кувыркаться, перепрыгивать со звезды на звезду. Но, ради Бога, не трогайте время!»
Но, с другой стороны, можно ли требовать от меня, чтобы я по собственной инициативе разорвал договор с доктором Готардом? Каким бы жалким ни казалось существование отца, но как-никак я вижу его, нахожусь рядом, разговариваю с ним… В сущности, я обязан быть бесконечно благодарен доктору Готарду.
Неоднократно я хотел поговорить с ним в открытую. Но доктор Готард неуловим. «Он только что пошел в ресторан», — сообщает мне горничная. Я направляюсь туда, но тут она догоняет меня и объявляет, что ошиблась, доктор Готард в операционной. Я бегу на первый этаж, размышляя, какие операции тут могут проводить, вхожу в тамбур, и меня просят подождать. Доктор Готард через минуту выйдет, он только что закончил операцию и моет руки. И я почти что действительно вижу, как он, невысокий, в развевающемся халате, широким шагом проходит через анфиладу больничных палат. Что же выясняется буквально через минуту? Никакого доктора Готарда тут не было, и вообще уже несколько лет здесь не производилось никаких операций. Доктор Готард спит у себя в комнате, и над подушкой торчит его задранная черная борода. Комната заполняется храпом, как тучами, и они растут, наслаиваются, поднимают на своем клублении доктора Готарда вместе с его кроватью все выше и выше — происходит великое патетическое вознесение на волнах храпа и вздувшейся постели.
Происходят здесь и куда более странные вещи, которые я старательно отодвигаю от себя, вещи фантастические по своей абсурдности. Неоднократно, когда я выхожу из комнаты, у меня возникает ощущение, будто кто-то удаляется от нашей двери и сворачивает в боковой коридор. Или кто-то идет впереди меня, не оборачиваясь. И это не медицинская сестра. Я знаю, кто это! «Мама!» — кричу я дрожащим от волнения голосом, и мама поворачивает ко мне лицо и какое-то мгновение смотрит на меня с умоляющей улыбкой. Что тут происходит! В какой я запутался ловушке?
5Не знаю, может, это влияние поры года, но дни набирают более солидную тональность, становятся сумрачней и темней. Ощущение, будто на мир смотришь через совершенно темные очки.
Пейзаж является словно бы дном огромного аквариума — заполненного разведенными чернилами. Деревья, люди, дома превращаются в темные силуэты, колышущиеся, как подводные растения, на фоне чернильной этой бездны.
Около Санатория полным-полно черных собак. Собак разного роста и вида; почти стелясь, полные сосредоточенности и напряжения, они безмолвно бегают по всем дорогам и тропкам, занятые какими-то своими собачьими делами.
Они пробегают по две, по три, чутко вытянув шеи, насторожив уши, и из гортаней у них непроизвольно вырывается тихий скулеж, что выдает высочайшую степень возбуждения. Поглощенные своими проблемами, вечно спешащие, вечно на бегу, вечно устремленные к непонятной цели, они почти не обращают внимания на проходящего человека. Лишь иногда на ходу стрельнут на него глазами, и из этого брошенного искоса взгляда на миг вырывается бешенство, обуздываемое только лишь недостатком времени. Иногда, правда, они дают волю злобе и, опустив низко голову, со зловещим рычанием направляются к человеку, но на полпути отказываются от своих намерений и огромными прыжками уносятся дальше.
С этим бедствием ничего не поделать, но на кой черт администрация Санатория держит на цепи громадного волкодава, чудовищную зверюгу, настоящего оборотня, прямо-таки дьявольски злобного и дикого?
Мурашки пробегают у меня по коже всякий раз, когда я прохожу мимо его будки, возле которой на короткой цепи сидит он с дико вздыбленным вокруг головы воротником косм, усатый, щетинистый, бородатый, демонстрируя механизм могучей пасти, полной клыков. Он не лает, нет, просто при виде человека его свирепая физиономия становится еще страшнее, черты ее застывают в выражении бесконечного бешенства, и, медленно поднимая чудовищную морду, он заходится в конвульсии низкого, яростного, вырывающегося из глубин ненависти воя, в котором прорывается горечь и отчаяние бессилия.
Отец, когда мы вместе выходим из Санатория, проходит мимо этого чудища с полнейшим безразличием. Я же каждый раз до глубины души бываю потрясен этим стихийным проявлением бессильной ненависти. Сейчас маленький, худой отец семенит рядом со мной мелкими старческими шажками, и я вижу, что уже на две головы выше его.
Подходя к рынку, мы обнаруживаем небывалое движение. По улице бегут толпы людей. До нас доносятся какие-то невероятные слухи о вторжении в город неприятельской армии.
Среди всеобщего замешательства люди обмениваются пугающими и противоречивыми сообщениями. Трудно взять в толк, что происходит. Война, которой не предшествовали дипломатические шаги? Война среди всеобщего блаженного спокойствия, не нарушаемого ни одним конфликтом? С кем война и из-за чего? Нам сообщают, что вторжение неприятельской армии подтолкнуло партию недовольных выйти с оружием в руках на улицы и терроризировать мирных обывателей. И мы действительно увидели группу заговорщиков; в черных цивильных костюмах, с перекрещенными на груди белыми ремнями они молча продвигаются по улице с винтовками наперевес. Толпа отступает перед ними, сбивается на тротуарах, а они идут, бросая из-под цилиндров иронические темные взгляды, взгляды, в которых рисуется чувство превосходства, проблеск злорадного веселья и как бы некое доверительное подмигивание, словно они с трудом сдерживают смех, разоблачающий всю эту мистификацию. Некоторых в толпе узнают, но веселые окрики замирают на устах при взгляде на грозные опущенные стволы. Мятежники проходят мимо нас, никого не тронув. И опять все улицы заполняются встревоженной, угрюмо молчащей толпой. Над городом плывет глухой рокот. Впечатление, будто издалека доносится стук колес артиллерийских орудий, громыхание зарядных ящиков.