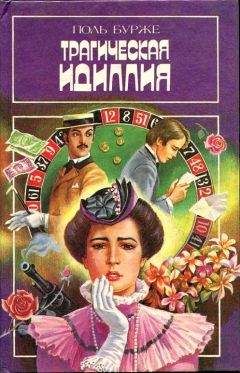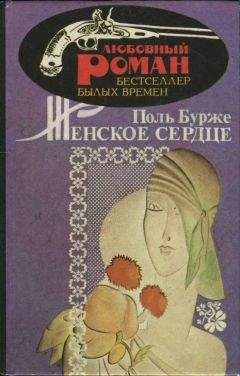Поль Бурже - Ученик
— Так, — сказал Сикст, взглянув на чемодан. — Сейчас же купите мне другой чемодан, вроде этого, и уложите в него все, что необходимо для поездки.
— Значит вы уезжаете, господин Сикст? — растерялась мадемуазель Трапенар.
— Да, на несколько дней. — Но ведь у вас ничего нет, что требуется в дороге, — заметила старая экономка. — Разве можно пускаться в путь без пледа, без…
— Купите все, что нужно, — перебил ее философ, — и, пожалуйста поторопитесь: поезд отходит в девять часов.
— Я тоже поеду? — Вам незачем ехать, — ответил Сикст. — Но имейте в виду, времени осталось в обрез..
— Как бы он не загубил себя, — заметил Карбоне, когда Мариетта рассказала в привратницкой о новом событии, почти так же удивившее этот мирок, как потрясла бы его, например, весть о женитьбе философа.
— Хоть бы взял меня с собой! — сказала служанка в ответ на свои, мысли. — Я поехала бы с ним, даже если бы пришлось из своего кармана за билет заплатить…
Одно это восклицание, столь трогательное в устах женщины, некогда прибывшей в Париж из департамента Ардеш, чтобы поступить в услужение, и доводившей экономию до того, что она кроила себе кофты из старых сюртуков хозяина, доказывало лучше всего, до какой степени обеспокоила всех этих простых людей перемена, происшедшая в характере философа, который в те дни действительно переживал очень тяжелый нравственный кризис. Не подозревая, что за ним наблюдают, он выдавал крайнюю остроту своих волнений в малейших жестах ив каждой черте лица. Таких тяжелых "часов не было в жизни г-на Сикста с тех пор, как умерла его мать.
К тому же в те далекие дни его переживания, связанные с непоправимой утратой, ограничивались об ластью личных чувств, тогда как записки Робера Грелу затронули всю полноту его умственной жизни, самое дорогое для него, то, в чем он видел смысл существования. Отдавая Мариетте распоряжение приготовить чемодан, философ испытывал тот же непреодолимый страх, как и тогда, когда ночью впервые перелистывал тетрадь с исповедью Грелу. Гнетущее состояние овладело им с первых же страниц повествования, где с таким смешением гордости и стыда, цинизма и простодушия, низости и благородства разбиралось и как бы выставлялось напоказ преступное заблуждение человеческого ума. Когда ученый дошел до фразы, в которой Робер Грелу заявлял, что тесно и нерасторжимо связан с ним, философ содрогнулся, и так же содрогался он при каждом новом, упоминании своего имени в этом необыкновенном анализе, при каждой цитате из его книг, которые давали право этому странному юноше называть себя его учеником.
Находясь во власти какого-то очарования, в котором ужас сочетался с любопытством, Сикст не отрываясь прочел эту исповедь человеческой души с первой до последней строки: идеи, дорогие его сердцу идеи, и наука, любимая им наука, были представлены здесь в соединении с самыми постыдными поступками. Мало того, что они были в соединении с такими поступками! Риомский подсудимый в свое оправдание ссылался на эти идеи, на эту науку как на причину самой чудовищной, безудержной развращенности. По мере того как Сикст читал рукопись, ему начинало казаться, что какая-то часть и его собственного существа оскверняется, разлагается, поражается гангреной, потому что на каждом шагу он находил нечто от самого себя, видел, что он каким-то колдовством пристегнут к чувствам, которые ненавидел больше всего на свете. Ибо у этого знаменитого философа в полной неприкосновенности сохранилась незапятнанная чистота совести и за смелыми мыслями отрицателя всегда таилось благородное человеческое сердце… Именно в своей безупречной совести и безукоризненной порядочности и чувствовал себя неожиданно уязвленным учитель этого вероломного гувернера. Мрачная история так подло подстроенного обольщения, ужасного предательства и прискорбного самоубийства ставила философа лицом к лицу со страшным фактом: с влиянием его идей, оказавшихся разлагающими и тлетворными, хотя он лично жил в полном самоотречении и его идеалом всегда была чистота. История Робера Грелу выставляла книги Сикста как сообщниц отвратительной гордыни и мерзкой чувственности, а. между тем он всегда писал только для того, чтобы служить науке, выполнял в качестве скромного труженика дело, которое считал благотворным, соблюдая строжайший аскетизм и не давая врагам повода использовать его личную жизнь в виде аргумента против его принципиальных утверждений. Впечатление от дневника было тем сильнее, что оно было совершенно неожиданным. Такое же чувство мог бы испытать медик, человек большого сердца, нашедший средство против какой-нибудь болезни и вдруг узнавший, что один из его ассистентов решил испробовать это средство на практике, в результате чего целая палата больных находится при смерти. Очень горько бывает умышленно совершить какой-нибудь неблаговидный поступок. Но в тысячу раз тяжелее потрясение, в тысячу раз мучительнее рана, — пусть даже потрясение длится не более часа, а рана немедленно закроется, — если человек, в течение тридцати лет посвящавший себя труду, который он считал полезным, тридцать лет трудившийся искренне, с чистой совестью, отклоняя как незаслуженные все обвинения своих противников в безнравственности и ни на минуту не сомневаясь в своей правоте, — если этот человек в свете молниеносного открытия вдруг получит неоспоримое, очевидное, как сама жизнь, доказательство, что труд его отравил человеческую душу что он заключает в себе тлетворное начало, которое продолжает распространяться по всему свету! Всем мыслителям, совершившим переворот в какой-либо области, знакомы приступы подобной тревоги. Большинство из них быстро преодолевает эту тревогу. И вот почему. Ведь редко случается, чтобы чело век, бросившись в битву идей, вскоре не утратил своих первоначальных искренних убеждений и постепенно не уподобился актеру, который продолжает играть некую заученную роль. Люди приобретают сторонников и очень скоро, когда их потреплет жизнь, приходят к концепции приблизительных понятий, а это позволяет допускать известное умаление идеалов. Они успокаивают себя тем, что хотя они в данном случае и поступили неправильно, зато правильно поступили в другом и что в конце концов все поступают так же. Но Адриен Сикст был слишком искренним человеком, чтобы так рассуждать; у него не было ни роли, которую нужно было бы играть, ни приверженцев, с которыми надлежало бы считаться. Он жил в полном одиночестве. Его философия и он сам составляли единое целое, и компромиссы, обычно сопутствующие славе, не затронули его прекрасную, гордую и суровую душу, душу подлинного ученого. К этому следует добавить, что благодаря своему чистосердечию он жил в обществе, как бы не замечая его вокруг себя. Страсти, которые он описывал, преступления, которые он изучал, представлялись ему отвлеченными объектами вроде тех, что отмечаются в историях болезни: «Н… 35 лет… такой-то профессии… холост…» И далее следует изложение данного заболевания, без единой подробности, которая дала бы читающему ощущение индивидуальности больного. Словом, ни разу в жизни этот суровый теоретик страстей, тончайший анатом воли, не посмотрел в лицо живому человеку Из крови и плоти. Поэтому исповедь Грелу не только растревожила его совесть. Философ должен был ухватиться и, конечно, ухватился за сведения сообщенные юношей, с той жадностью, с какой свет воспринимается зрачком, только что освобожденным от катаракты. Прочитав записки, Сикст в течение целой недели находился в состоянии какой-то одержимости и она еще больше усилила его моральные муки, прибавив к ним нечто вроде физического недомогания.
Мозг этого человека, привыкший оперировать только отвлеченными понятиями, оказался как бы во власти конкретного и навязчивого кошмара. Психолог представлял себе своего несчастного ученика таким, каким видел его тогда, в этой самой комнате, стоящим на этом самом ковре, опирающимся на этот стол, дышащим, двигающимся.
За словами, написанными на бумаге, он слышал немного глуховатый голос, произносящий ужасную фразу: «Я с такой страстью и такой полнотой жил вашими мыслями и вместе с вашими мыслями!» И слова исповеди уже не были мертвыми словами, написанными холодными чернилами на безразличной бумаге: они вдруг ожили, превратились в звуки, за которыми философ чувствовал трепет живого существа.
«Ах, — думал он, когда образ становился невыносимо ярким, — зачем его мать принесла мне эти записки? Было бы так естественно, если бы несчастная женщина, одержимая желанием доказать невиновность сына, использовала для этого доверенную ей рукопись.
Но, очевидно, Робер, прибегнув к лицемерию, которым, он гордится, словно какой-то психологической победой, обманул и ее…» Лицо юноши, как в галлюцинации неотвязно стоявшее перед глазами философа, выводило его из равновесия. Когда мать Робера бросила ему в лицо: «Вы развратили моего сына!» — безмятежность ученого была едва задета. Обвинения маркиза де Жюсса, о которых он узнал от следователя, как и фраза самого представителя судебного ведомства о его моральной ответственности, тоже вызвали у Сикста лишь презрение. С каким спокойствием и даже интересом к этому делу, чуть ли не с оживлением покинул он здание суда! А теперь он уже не находил в себе этой способности презирать. Его безмятежное состояние было нарушено, и он, отрицатель свободы воли, он, ученый, который с хладнокровием химика, изучающего свойства какого-нибудь газа, разлагал на составные части порок и добродетель, он, смелый глашатай учения о всемирной механике, до сих пор живший в полной гармонии ума и сердца, — он испытывал теперь невыносимые муки, противоречившие всем его доктринам.