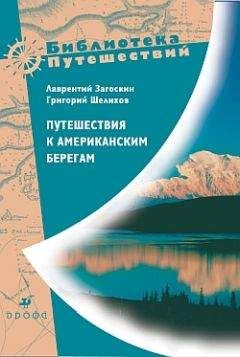Луи Селин - Путешествие на край ночи
Она не скрыла, что считает меня способным на любое паскудство. Такое предположение не обидело меня — мне стало всего лишь неловко. Она догадывалась, что я явился просить денег, и этот факт сам по себе, естественно, создавал между нами атмосферу враждебности. От подобных чувств недалеко и до убийства. Мы обменивались общими фразами, и я лез из кожи, чтобы избежать скандала и окончательной размолвки. Осведомилась она между прочим и о моих половых забавах: не оставил ли я, бродяжничая, где-нибудь ребенка, которого она могла бы усыновить. Странно, однако, как такое взбрело ей в голову! Мысль об усыновлении сделалась ее пунктиком. Она простодушно воображала, что неудачники вроде меня обязательно оставляют незаконных отпрысков под всеми небесами. У нее много денег, призналась Лола, и она изнывает от желания посвятить себя ребенку. Она прочла все, что написано о деторождении, особенно книги, самозабвенно-лирически воспевающие материнство и навсегда, если их полностью усвоить, отбивающие охоту совокупляться. У каждой добродетели своя порнография.
Поскольку Лола жаждала пожертвовать собой ради крохотного существа, мне сильно не повезло. Я мог предложить ей лишь свое здоровенное существо, но она находила его отвратительным. Сочувствие вообще встречают лишь те невзгоды, которые умело поданы и действуют на воображение. Разговор не получался.
— Вот что, Фердинан, — предложила наконец Лола. — Хватит нам болтать. Съездим-ка на другой конец Нью-Йорка, навестим одного мальчика, которому я протежирую. Это доставляет мне удовольствие, только вот мать его меня раздражает.
Странная это была поездка. По дороге, в машине, речь зашла о негре Лолы.
— Показывал он вам свои бомбы? — спросила она. Я сознался, что он подверг меня этому испытанию.
— Знаете, Фердинан, он маньяк, но не опасный. Он снаряжает бомбы моими старыми счетами. Вот раньше, в Чикаго, он давал жизни. Состоял в страшном тайном обществе борьбы за эмансипацию черных. Как мне рассказывали, это были ужасные люди. Власти ликвидировали банду, но мой негр сохранил любовь к бомбам. Взрывчатку он в них не кладет — с него довольно одного сознания. В сущности, он художественная натура. Революцией он так и не бросит заниматься. Но я его держу: слуга он великолепный. И в общем, пожалуй, честнее тех, кто не делает революций…
Тут она вернулась к своему пунктику — усыновлению.
— Как жаль все-таки, что у вас нет где-нибудь дочери, Фердинан! От такого мечтателя, как вы, наверняка родилась бы хорошая девочка, а вот хороший мальчик вряд ли…
Хлещущий дождь сгущал ночь вокруг машины, скользившей по бесконечной полосе гладкого бетона. Все было холодно и враждебно, даже рука Лолы, которую я все-таки не выпускал из своей. Нас все разделяло. Мы подъехали к дому, разительно непохожему на тот, откуда отправились. В одной из квартир на втором этаже нас ждали мальчик лет десяти и его мать. В гостиной, обставленной с претензиями на стиль Людовика XV, пахло недавней едой. Ребенок забрался на колени к Лоле и нежно ее поцеловал. Мне показалось, что мать тоже очень уж ласкова с ней, и, пока Лола болтала с мальчуганом, я ухитрился увести мать в соседнюю комнату.
Когда мы вернулись, мальчонка показывал Лоле какое-то танцевальное па, которому выучился в музыкальной школе.
— Ему надо взять несколько частных уроков — решила Лола. — Мне, возможно, удастся показать его своей подруге Вере из театра «Глобус». По-моему, из ребенка кое-что выйдет.
В ответ на эти ласковые ободряющие слова мать рассыпалась в слезливых благодарностях. Одновременно она получила пачечку зелененьких и спрятала ее за вырез платья, словно любовную записку.
— Мальчик мне нравится, — подытожила Лола, когда мы опять оказались на улице, — но приходится терпеть и мать, а я не люблю чересчур пронырливых мамаш. И потом мальчишка он все равно испорченный. Я ищу не такой привязанности. Мне хочется испытывать чистое материнское чувство. Понимаете, Фердинан?
Еще бы! Ради жратвы я пойму что угодно, тут уж у меня не ум, а резина.
Никак она не могла расстаться с мыслью о чистых чувствах! Проехав еще несколько улиц, она поинтересовалась, где я буду сегодня ночевать, и прошла со мной несколько шагов по тротуару. Я ответил, что, если сейчас не раздобуду хоть несколько долларов, ночевать мне окажется негде.
— Ладно, — сказала она, — проводите меня до дому, там вы получите от меня немного денег, а уж потом отправитесь куда захотите.
Ей не терпелось поскорей потерять меня во тьме. Что ж, это было понятно. «Если меня будут выталкивать в ночь, я, пожалуй, куда-нибудь и докачусь», — твердил я себе. Это утешало. «Держись, Фердинан, — повторял я. — Повышвыривают тебя этак за дверь, вот ты и найдешь наконец такой ход, от которого всем этим сволочам станет как следует страшно, только придумать его можно лишь на самом краю ночи. Потому-то они туда и не суются!»
Теперь, в машине, мы окончательно охладели друг к другу. Мы ехали по молчаливым, дышавшим угрозой улицам, до самого верху вооруженным несчетными камнями, которые зависли над нашей головой, как лавина. Настороженный город в слизистом панцире гудрона и дождя походил на чудовище, подстерегающее добычу. Наконец автомобиль затормозил. Лола пошла вперед, к дверям.
— Входите, — бросила она. — Следуйте за мной.
Снова гостиная. Я все думал, сколько Лола мне отвалит, чтобы раз навсегда отделаться от меня. Она порылась в сумочке, брошенной на буфет. Я услышал оглушительный шорох отсчитываемых купюр. Все звуки города, кроме этого, смолкли для меня. Я так растерялся, что неизвестно зачем полюбопытствовал, как поживает мать Лолы, о которой я раньше даже не вспомнил.
— Мать больна, — отозвалась Лола, обернувшись и глядя мне прямо в глаза.
— Где она сейчас?
— В Чикаго.
— И чем же она больна?
— У нее рак печени. Я обратилась к лучшим тамошним специалистам. Лечение стоит очень дорого, но ее спасут. Так они мне обещали.
Она поспешила сообщить и другие подробности состояния своей матери. Неожиданно размякнув и перейдя на доверительный тон, она поневоле ощутила потребность в моем сочувствии. Она была у меня в руках.
— А вы что скажете, Фердинан? Они ведь поднимут ее, верно?
— Нет, — четко и категорично ответил я. — Рак печени совершенно неизлечим.
Она разом побелела. Я впервые видел, чтобы эта стерва утратила апломб.
— Но как же так, Фердинан? Ведь специалисты уверяют, что поставят ее на ноги. Они же обещали. Даже писали об этом. А они — выдающиеся врачи, понимаете?
— За деньги, Лола, найдутся и выдающиеся врачи. На их месте я поступал бы точно так же. Да и вы, Лола, тоже.
Мои слова показались ей вдруг такими неоспоримыми, что она не посмела возражать.
С нее, вероятно, в первый раз за всю жизнь слетело самодовольство.
— Послушайте, Фердинан, вы отдаете себе отчет, что глубоко меня огорчаете? Я очень люблю мать, и вам это известно, не так ли?
Вот те на! Да кому какое дело, любит она свою мамочку или нет!
Ощутив нахлынувшую пустоту, Лола разрыдалась.
— Вы мерзкий неудачник, Фердинан, вы отвратительный ублюдок! — яростно взвилась она. — Вы на мели и вымещаете это на мне, говоря всякие гадости. Я уверена, что ваши разговоры могут повредить маме.
От ее отчаяния тянуло запашком методы Куэ[51].
Ее возбужденность ничуть не напугала меня в отличие от возбужденности офицеров на «Адмирале Мудэ», намеревавшихся покончить со мной в угоду заскучавшим дамам.
Пока Лола осыпала меня бранью, я внимательно присматривался к ней и даже отчасти гордился тем, что моя бесстрастность, нет, не бесстрастность, а радость становится по контрасту тем полней, чем забористей Лола ругается.
До чего мы все красивы изнутри!
«Чтобы избавиться от меня, ей придется выложить долларов двадцать. А то и больше», — прикинул я.
И перешел в наступление.
— Лола, одолжите мне, пожалуйста, обещанные деньги, или я останусь у вас ночевать и буду вам повторять все, что знаю о раке, его осложнениях и наследственности, потому что он наследствен. Не забывайте об этом.
По мере того как я разбирал и обсасывал подробности болезни, Лола бледнела, слабела, обмякала. Я это видел.
«А, сука! — твердил я про себя. — Не давай ей спуску, Фердинан! Сила на твоей стороне. Второй такой случай вряд ли подвернется».
— Нате, берите! — закричала она в исступлении. — Вот ваши сто долларов. Убирайтесь к черту, и чтобы я вас больше не видела, слышите? Out, out, out[52], грязная свинья!
— Вы хоть поцелуйте меня, Лола. Ну, пожалуйста! Мы же не ссорились, — предложил я: мне было интересно, до какой степени я ей отвратителен.