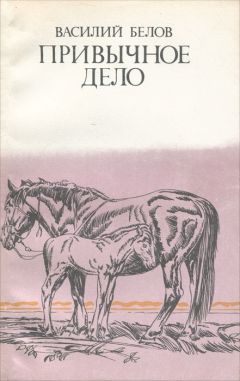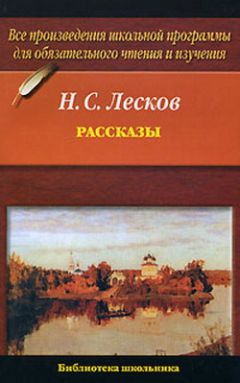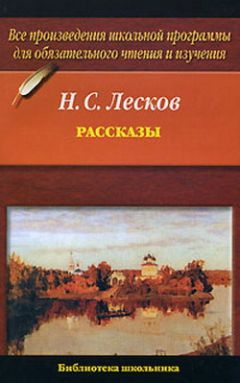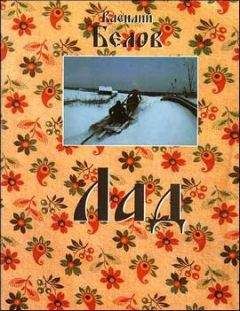Василий Белов - Привычное дело. Рассказы
Я оставлял эти клочковатые мысли в твоих лесах, бродя босиком по земле, и шишки стукались об нее, цвела земляника. Куковали кукушки, и река катилась под нашим домом. Жаль, мы так и не выкупались ни разу за шесть дней. Река ждала нас, и вода все катилась под угором, такая же невозвратная, как наше время.
* * *Однажды я потерял чувство времени. Время как бы остановилось и исчезло. И все прожитое мной, начиная с первых воспоминаний, стоявшее до этого в ряд, утеряло последовательность, все сконцентрировалось и слилось в одной точке. Не существовало и будущего, было только одно настоящее, то, что уже есть, и это было странно-счастливое состояние. Нет времени. Нет вечности – ни той, которая позади нас, ни той, что впереди: есть только то, что есть, есть нулевые координаты времени. Теперь вдалеке от Бобришного, я с улыбкой вспоминаю то счастливое состояние, сравнимое, может быть, только с состоянием космической невесомости, когда для человека нет ни севера, ни юга, ни востока, ни запада, ни верха, ни низа. Странное необъяснимое состояние. Я глядел на все, окружающее Бобришный угор, каким-то внутренним взором, мне казалось, что я слышу цвета и размеры, а звуки и запахи вижу, хотя моего «я» тоже не было, оно тоже исчезло. Может быть, это состояние было вызвано чтением Толстого: этот старик как бы стоял у моего изголовья живой, и его дух был моим духом, он чувствовал то же, вернее, я при его воздействии чувствовал то же, что чувствовал он. Иными словами, он был живым, он жил во мне, пока я читал «Казаков» и повесть «Семейное счастье», и то, что он жил, смывало ощущение времени. Может быть, это состояние питалось присутствием всюду натуральной, не из вторых рук природы, которой ни до чего не было дела, может быть, тем, что я никогда не видел тебя спящим.
Рябчик свистел за нашим домом, то печально звенели комары, пахло солнечной хвоей, то виднелись в окнах неподвижные, в мягких сумерках ветви деревьев, и не поймешь, какая пора суток. Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать и что дружба не требует обязательного присутствия, и жил один, но иногда меня мучила твоя излишняя заботливость, мне хотелось нейтральности дружеского равнодушия. Ведь настоящих друзей никогда не потчуют за столом. Но ты противоречив: даже и жалуясь на обилие и назойливость всевозможных гостей, всегда радовался их приездам, тем приездам, когда гости маскируют ухой самое банальное желание выпить или лишний раз напомнить тебе кто есть кто. Однажды после такого наезда я с туманной головой и сосущей болью в боку с пятого на десятое слушал тебя и вдруг вздрогнул: такое горе, такая скорбь просочилась в твоем голосе. Ты говорил о своем недавно погибшем сыне и плакал, и у меня сжалось сердце оттого, что твои слезы не были слезами облегчения и что ничем тут не поможешь, ничего не вернешь; горе это неутешно и необъятно. Да, умереть нужно мужественно, но, наверное, еще большее мужество необходимо, чтобы жить, человеку иногда труднее жить, чем кончить однажды. Помнится, я осторожно сказал тебе, что ведь умрут даже те, кого еще нет на свете, кто даже не родился еще, но это не прозвучало для тебя утешением, и в домике на Бобришном угоре всю ночь жило страдание. Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой сосной, на откосе, долго глядел в сизое тускнеющее к полудню небо. Почему-то солнце не могло меня согреть. Я встал, насобирал сушняку и разжег костер. Огонь тоже не грел, а лишь обжигал, я глядел на сивый древесный пепел, слушал тревожный замирающий шум леса и думал о смысле всего, о непонятном, ускользающем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Костер утихал, и время шло в одну сторону, и ничто не могло остановить его хода: ни голос кукушки, ни голос сердца, посягающего на все непонятное. Где-то на западе грозно, далеко, гремел гром, он, то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торопясь, надвигался к Бобришному угору. Гроза рычала все ближе, и земля поглощала ее картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе – все это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-косматое солнце, ветер матерел с каждой секундой. Я медленно уходил от грозы, преодолел густой, совсем молоденький ельник и вышел в сухой корявый сосняк. В этом редком, тоже молодом сосняке не было ни листка, ни травинки, один ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был чужим, равнодушным, всюду широко и надменно хозяйничала гроза, но ее грохот казался мне нелепым, бессмысленным: на кой черт все это! Для чего и зачем?
В доме я увидел тебя спокойно сидящим за тем еловым, сколоченным из чурбаков и плах столом. Ты оглянулся: во взгляде светился ровный ясный покой. Спросил, не промочил ли я ноги, и голос прозвучал тоже как-то сердечно и просто, в нем были мудрость, тепло и словно тихое снисхождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, переболевший ими задолго до меня, и теперь допускал их для меня и принимал, словно зная что-то другое, более главное, еще не пришедшее ко мне. Но прежнее восприятие жизни возвращалось ко мне медленно, и самое смешное то, что я злился на себя из-за того, что оно возвращалось. Я вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, будто сверху и снизу, со всех сторон домика трещал гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг полетел град и дохнуло зимой взаправду. Градины стучались о крышу, бухали о землю, прискакивали и медленно таяли, и гром стлался по земле, в лесу, и в небе летела вода. Один раз треснуло совсем рядом, одновременно с зеленой вспышкой разряда, и это словно вышибло из меня остатки рефлексии...
Нет, надо просто жить, раз родился, и нечего спрашивать, зачем родился, жить, жить, жить... И нечего, нечего. С чувством наблудившего и со стыдом я закурил, мне уже хотелось как в детстве закатать штаны и босоплясом пуститься по дождевым лужам.
Гроза утихала над нашим кровом, она уходила частью дальше, частью выдыхалась, но дождь еще долго кропил Бобришный угор. В доме было тепло и спокойно, отблески молний вспыхивали за окнами, пахло освеженною зеленью. Гром еще рычал где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды «Спидола» негромко играла прекрасную музыку. Было слышно, как с крыши капают последние капли, и музыка, похожая на эту капель, звучала в домике, кажется, это была одна из шопеновских мазурок, та самая, в которой звучит спокойная радость жизни, светлая послегрозовая усталость и гармоничное, счастливое созерцание мира. И оттого, что в доме струилась эта светлая прекрасная музыка, что в твоем голосе была поддержка, и дружба, и мужество, хотелось снова что-то делать для людей и для времени в этом непостижимом мире.
* * *Бобришный угор тихо рокотал соснами, когда мы уходили по лесной дороге. Река мерцала, кукушка молчала, а на окне так и остались синие лесные цветы, и сосновые лапы, и томик Толстого. Наверное, сейчас там тишина и снег, река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в остывшей печке свистит ветер. Домик ждет весны, которой никогда для него не будет. А я с запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, последний наш деревенский кров: видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, это приговор необратимого времени.
ДАННЫЕ
Посвящается Евгению Носову
Вагон поминутно дергался, перемещаясь в ночи. Он как бы искал спокойное, тихое место в тревожном прифронтовом пространстве. Состав, словно беспамятный раненый, то обессиленно замирал, то судорожно вздрагивал, вытягивался в длину, и тогда из конца в конец, на артиллерийский манер, бухали буфера и лязгали сцепы. Грохот стали и чугуна удалялся то в одну сторону, то в другую, замирал где-то вдали. Под полотном «телятника», как прозвали громоздкую пульмановскую телегу, под тем самым местом, где спал рядовой Лаврухин, то и дело настырно брякала какая-то железяка. Этот стук-бряк сопровождал минуты кошмарного солдатского отдыха.
Перед рассветом железнодорожники притомились делать маневры. Состав замер. Тишина сладким, нудно-тоскливым туманом спеленала солдат. Сон Лаврухина выровнялся. Кошмары начали отступать, давая место отрадным, четким и даже цветным видениям. Вот Лаврухин розовым клеверным полем ведет в поводу двух лошадей лохматой сибирской породы. Одна чалая, другая гнедая. Торопится он, а у гумен замешкался, и хочется ему завести лошадей в гумно, как будто объявлена воздушная тревога. Но никаких самолетов не прилетело, и сибирские лошаденки, таскавшие лаврухинскую сорокапятку, сменились сенокосной оравой из соседней деревни. «Почему это я к чужим-то пристроился?» – недоумевает Лаврухин во сне. Он хочет спросить об этом знакомого мужика – а тот вдруг превратился в старшину Надбайло. «До чего же ты упрям, Балябинец!» – обернулся и строго сказал старшина товарищ Надбайло. Лаврухин удивился еще больше. Откуда узнал харьковский родом старшина про его, Лаврухина, деревенское прозвище? И кто мог дать ему эти данные? И старшина-то давно погиб, его зарыли еще зимой около деревеньки, которая трижды переходила из рук в руки.