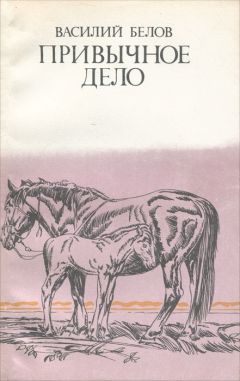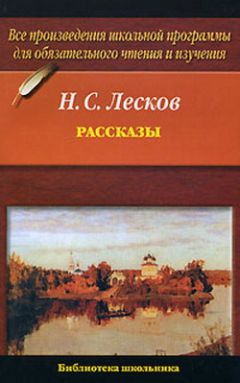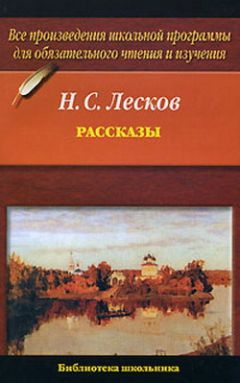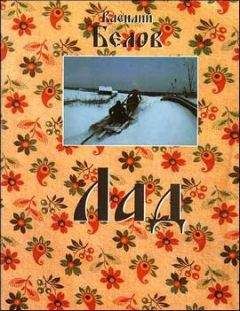Василий Белов - Привычное дело. Рассказы
Как раз в это время и чмокнул соловей, я с удовольствием забыл про муравьев, сбегал за удочками, волнуясь, размотал леску...
И вот мы маячим на высоком тихом зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обруснув листья, с хрустом закусываю: кислый и сочный щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, с кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Наверное, в этом и есть главная тайная прелесть уженья и охоты. Глядя на поплавок, забываешь о преходящей своей сути, забываешь о неизбежности собственного конца. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще ни разу не ознобила тебя своим безжалостным инеем. Поплавок застрял в мозговом механизме, остановил его ход, его неумолимый бег к той стремнине, где бессменно караулят нас ехидные категории смерти, пространства и времени. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство меж берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме звучит коровий колокол – жалкий наследник своих могучих меднобоких предков. И вдруг я как бы с удивлением замечаю, что поплавок уже давно недвижим, что, собственно, ведь и не клюет и что надо сматывать удочку...
И все вновь становится по-прежнему. А ты с наживкою в рукавице неутомимо ходишь от заводи к заводи. Ищешь, ждешь хорошего клева, и у каждого нового куста веришь в большую добычу. И каждый куст обманывает тебя, и ты вслух придумываешь причины безрыбья. Тебе хочется поймать хариуса. Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда, мы с минуту любовались тремя беззащитными яичками. Потом поднялись на угор.
Все-таки на уху-то наудил ты со своим терпением, а не я, проспавший восход солнца. Наверное, терпение нужно людям не меньше, чем азарт и смелость, иначе не сваришь никакую уху, никакую кашу, вся беда в том, какое терпение.
Вытряхивая из старой холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землею, ты рассказываешь о том, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше, если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спитым чаем. «Что ж, чай с молоком – напиток давнишний, аристократический, напиток бунинских мелкопоместных дворян и северного крестьянства», – почему-то думается мне, а ты уже волокешь меня дальше, смотреть дятлову работу.
– Знаешь, какое у дятла профессиональное заболевание?
Я, конечно, не знал. Не знал, что профессиональное заболевание у дятла – сотрясение мозга... С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне отверстие, продолбленное дятлом в дощатой стенке сеней. Сколько же нужно было тюкать, чтобы пробить эту дыру в стене, какое нужно упрямство! Но самое интересное то, что дятлова дыра сделана в десяти сантиметрах от окошечка, выпиленного плотниками. Вместо того чтобы влезть в это окошечко и посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, только свое, окошечко. А я тоже, как тот дятел, уже не могу без своих дурацких аналогий. При виде дятловой работы мне думается про упрямство и гордость юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам. Опыт предков не устраивает гордых юнцов, и они каждый раз открывают заново уже открытые ранее истины, долбят свои собственные отверстия. И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы продолбить следующую, еще не тронутую стенку, а стенкам нет конца, и жизнь коротка, словно цветение шиповника на Бобришном угоре.
...Если бы юность умела,
Если бы старость могла.
Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным – это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить. Моя стеснительность, наверно, крестьянская, все время сковывала меня, и, может быть, я не выглядел откровенным в твоих глазах, и в них нередко мелькала тревожная настороженность. Но что я мог сделать и что вообще нужно делать в таких случаях? Самое лучшее – это взять ружье и уйти на тягу.
* * *Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это ведь и было в общем-то счастье. За тысячи лет исканий, войн, страданий и изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережженной солью, лучше смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна дома в сумерках, костер, раздвигающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи самых неприметных и доступных вещей делают меня счастливым.
Но я думаю о том, что человеку нужно, наверное, увидеть каскад городских огней, услышать каскад джазовых звуков.
И свист рябчика людям не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполонившая эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься столичных мимоз; не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не налетаешься на звенящих «ТУ» с их обязательными леденцами и пристяжными ремнями...
Не потому ли, что нам с тобой доступно и то и другое, а им лишь одно, так настороженно-недоверчивы к нам твои земляки? Кто-то подкорил сосну у крыльца домика. Ты страдаешь от их жестокого непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что вспоминается русская сказка про Ивана Глиняного. Она, эта сказка, звучит примерно так, как и все наши сказки: хитро и нелицеприятно, сурово и мудро. Жили-были дед с бабкой, у них ничего не было. Давай, старик, говорит старуха, слепим сынка из глины, а то никого у нас нет. Давай, говорит старик. Слепила старуха сынка из глины – Ивана Глиняного. Иван с лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вышел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван Глиняный и их съел. Идет дальше, дошел до леса, а навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, а медведь ему не поддался, распорол Ивану Глиняному все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабка, и мужики с косами. Мужики медведя бить. Били, били и укокошили...
Но ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в лесу. К тому же давно известно, что легче простить обиду, чем обидеть, но что-то тут не ладно... Что и кому можно прощать и где граница между великодушием и необходимой самозащитой? Ко всему этому, многие люди не прощают великодушия. Как те косцы, которые убили медведя. Мол, никто тебя не просил выпускать нас из брюха Глиняного, и нечего соваться не в свое дело. Может, нам в брюхе-то лучше было. Поди разберись теперь, положительный ли герой этот медведь?
Нет, я не верю, что все люди как эти косцы. Но добро, которое делают положительные герои, так часто оборачивается для людей самым жестоким злом, что герои и в жизни вовремя погибают. У писателя же тем более не хватает духу довести своего идола до конечного результата героической деятельности, и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели, предоставляя расхлебывать кашу новым, таким же непоколебимым героям.
Герои, герои, герои... Как часто приходит ко мне страшная мысль о том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды взорваться. А может быть, сила добрая и есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может быть мужество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность. Но так трудно быть человеком, не огрубеть, если не стоять на одном месте, а двигаться к какой-то цели. Ведь стоит даже самым нежным ногам одно лето походить по здешним лесам, и ноги те огрубеют, покроются толстой кожей, не способной ощущать раздавленного птенца. И все мы научились так изумительно оправдываться невозможностью рубить лес без щепы, что позволяем изводить на щепу и сами срубленные стволы, благо есть что рубить и лесостепь покамест не соединилась с холодной тундрой. Ко всему прочему мы порой ограничиваем борьбу за новое всего лишь разрушением старого. Потому что, чтобы разрушить, зачастую требовалось меньше ума, чем сделать новое, не разрушив того, что уже было. Ах, как любят многие из нас разрушать, как наивно уверены в том, что войдут в историю! Но ни один хозяин не будет ломать старую избу, не построив сперва новую, если, конечно, он не круглый дурак, ведь даже муравьи строят новый муравейник, оставляя в покое прежний, иначе им негде укрыться от дождя...