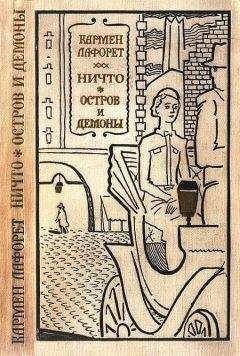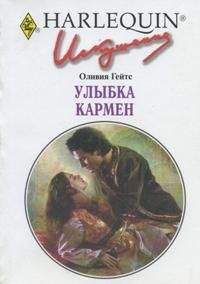Ги Мопассан - Милый друг
— Нет, нет, я не хочу! Я не хочу! — лепетала она в ужасе от предстоящего свидания наедине.
— Клянусь, что я вас не трону, — решительно проговорил он. — Идемте. Видите — на нас смотрят, вокруг уже собирается народ. Скорей… скорей… выходите. Клянусь, что я вас не трону, — еще раз повторил он.
На них с любопытством поглядывал содержатель винного погребка, стоявший у дверей своего заведения. Ей стало страшно, и она вбежала в подъезд.
Она начала было подниматься по лестнице, но Дю Руа удержал ее за руку.
— Это здесь, внизу, — сказал он и втолкнул ее в свою квартиру.
Заперев за собой дверь, он бросился на нее, как хищный зверь на добычу.
Она отбивалась, боролась, шептала: «Боже мой!.. Боже мой!..»
А он страстно целовал ее шею, глаза, губы, так что она не успевала уклоняться от его бурных ласк: отталкивая его, пытаясь избежать его поцелуев, она невольно прикасалась к нему губами.
Вдруг она перестала сопротивляться и, обессилевшая, покорная, позволила ему раздеть себя. Опытными, как у горничной, руками проворно и ловко начал он снимать одну за другой принадлежности ее туалета.
Она выхватила у него корсаж и спрятала в нем лицо, — теперь она, вся белая, стояла среди упавшей к ее ногам одежды.
Оставив на ней только ботинки, он понес ее к кровати. И тут она чуть слышно прошептала ему на ухо:
— Клянусь вам… Клянусь вам… что у меня никогда не было любовника.
Так молодые девушки говорят о себе: «Клянусь вам, что я невинна».
«Вот уж это мне совершенно все равно», — подумал Жорж.
V
Наступила осень. Супруги Дю Руа все лето жили в Париже и во время непродолжительных парламентских каникул вели на страницах «Французской жизни» решительную кампанию в пользу нового правительства.
Положение в Марокко становилось угрожающим, и в связи с этим, хотя было еще только самое начало октября, обе палаты собирались возобновить заседания.
Никто, в сущности, не верил в возможность танжерской экспедиции, несмотря на то что в день роспуска парламента правый депутат, граф де Ламбер-Саразен, в своей остроумнейшей речи, которой аплодировал даже центр, предложил пари и, как это сделал когда-то знаменитый вице-король Индии, поставил свои усы против бакенбард председателя совета министров, доказывая, что новый кабинет неминуемо должен будет пойти по стопам прежнего кабинета и в дополнение к тунисской экспедиции послать экспедиционную армию в Танжер — исключительно из любви к симметрии, подобно тому как на камин ставят две вазы.
«В самом деле, господа, — продолжал он развивать свою мысль, — Африка — это камин для Франции, камин, в котором сгорают наши лучшие дрова, камин с сильной тягой, который растапливают банковскими билетами.
Вы отдались на волю своей художественной фантазии и украсили левый угол камина тунисской безделушкой, которая обошлась вам недешево, — теперь вы увидите, что и господин Маро, в подражание своему предшественнику, украсит правый его угол безделушкой марокканской».
Речь эта приобрела широкую известность и послужила Дю Руа темой для десятка статей об Алжире — для той серии статей, которая была прервана, как только он поступил в редакцию. Он горячо поддерживал идею военной экспедиции, хотя в глубине души был убежден, что она не состоится. Он играл на патриотических чувствах и нападал на Испанию, пользуясь всем тем арсеналом насмешек, к которому мы обращаемся, когда интересы какого-нибудь государства не совпадают с нашими.
«Французская жизнь» открыто поддерживала связь с правительственными кругами, и это придавало ей особый вес. Она сообщала политические новости раньше других газет, даже самых солидных, и при помощи намеков давала читателям возможность проникнуть в замыслы ее друзей-министров. Она являлась источником информации для всех столичных и провинциальных газет. На нее ссылались, ее побаивались, с ней начинали считаться. Не внушавший доверия орган шайки политических проходимцев превратился в признанный орган правительства. Ларош-Матье был душой газеты, Дю Руа — ее рупором. Старик Вальтер, бессловесный депутат и изворотливый издатель, умевший, когда нужно, отойти в сторонку, затевал под шумок огромное дело, связанное, по слухам, с марокканскими медными рудниками.
Салон Мадлены сделался влиятельным центром, где каждую неделю сходились некоторые из членов кабинета. Сам председатель совета министров обедал у нее два раза. А жены государственных деятелей — те, что еще недавно не решались переступить порог ее дома, теперь гордились дружбой с нею и бывали у нее чаще, чем она у них.
Министр иностранных дел держал себя здесь почти как хозяин. Он приходил в любое время, приносил телеграммы, всякого рода сведения и диктовал то мужу, то жене информацию, как будто они были его секретарями.
Стоило министру уйти, и Дю Руа, оставшись вдвоем с Мадленой, ополчался на этого бездарного выскочку: в голосе его появлялись угрожающие нотки, каждое его замечание было полно яду.
Но Мадлена презрительно поводила плечами.
— Добейся того же, чего и он, — говорила она. — Сделайся министром, тогда и задирай нос. А до тех пор помалкивай.
Жорж крутил усы, искоса поглядывая на нее.
— Еще неизвестно, на что я способен, — возражал он, — быть может, когда-нибудь об этом узнают.
— Поживем — увидим, — тоном философа заключала она.
В день открытия парламента, пока Жорж одевался, собираясь идти к Ларош-Матье, чтобы еще до заседания получить у него информацию для завтрашней передовицы, в которой должны были быть изложены в официозном духе истинные намерения правительства, Мадлена, еще лежа в постели, поучала своего супруга.
— Главное, не забудь спросить, пошлют ли генерала Белонкля в Оран, как это предполагалось вначале, — говорила она. — Это может иметь большое значение.
— Не приставай, — огрызнулся Жорж. — Я не хуже тебя знаю, что мне надо делать.
— Дорогой мой, ты всегда забываешь половину моих поручений к министру, — спокойно возразила она.
— Мне осточертел твой министр! — проворчал Жорж. — В конце концов, он просто болван.
— Он столько же мой, сколько и твой, — хладнокровно заметила она. — Тебе он еще полезнее, чем мне.
— Виноват, за мной он не ухаживает, — слегка повернув к ней голову, сказал он с усмешкой.
— За мной тоже, но с его помощью мы создаем себе положение, — нарочито медленно сказала она.
— Если б мне пришлось выбирать между твоими поклонниками, — помолчав несколько секунд, снова заговорил Жорж, — я уж скорее отдал бы предпочтение старому олуху Водреку. Кстати, что с ним такое? Я не видел его уже целую неделю.
— Он болен, — с невозмутимым видом ответила Мадлена, — он писал мне, что приступ подагры приковал его к постели. Не мешало бы тебе навестить его. Ты знаешь, что он тебя очень любит, — это ему будет приятно.
— Да, конечно, — согласился Жорж, — сегодня же съезжу к нему.
Он закончил свой туалет и, надев шляпу, еще раз проверил, не забыл ли он чего-нибудь. Убедившись, что все в порядке, он подошел к кровати, поцеловал жену в лоб и сказал:
— До свиданья, дорогая, я вернусь не раньше семи.
И вышел из комнаты.
Ларош-Матье поджидал его; ввиду того что совет министров должен был собраться в двенадцать часов дня, до открытия парламента, он завтракал сегодня в десять.
Госпожа Ларош-Матье не пожелала перенести свой завтрак на другой час, и потому, кроме личного секретаря, у министра никого не было. Как только все трое сели за стол, Дю Руа заговорил о своей статье; заглядывая в заметки, нацарапанные на визитных карточках, он излагал ее основные положения.
— Что вы находите нужным изменить, дорогой министр? — спросил он под конец.
— Почти ничего, дорогой друг. Пожалуй, вы с излишней определенностью высказываетесь по вопросу о Марокко. Лучше говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, и одновременно дайте ясно понять, что она не состоится и что вы меньше, чем кто-либо другой, в нее верите. Сделайте так, чтобы публика вычитала между строк, что мы не сунемся в эту авантюру.
— Отлично. Я вас понял и постараюсь, чтобы поняли и меня. Кстати, жена просила узнать, будет ли послан в Оран генерал Белонкль. Из того, что вы мне сейчас сообщили, я сделал вывод, что нет.
— Нет, — изрек государственный муж.
Далее речь зашла о предстоящей парламентской сессии. Ларош-Матье начал разглагольствовать, заранее любуясь эффектом той речи, которую несколько часов спустя он собирался предложить вниманию своих коллег. Он взмахивал правой рукой, потрясал в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, ни на кого не глядя, обращаясь к невидимому собранию, брызгал сладенькой водицей своего красноречия, столь соответствовавшего его парикмахерской внешности. Маленькие закрученные усики жалами скорпиона торчали над его верхней губой, а напомаженные бриллиантином волосы, с пробором посредине, завивались кольцами на висках, как у провинциального фата. Несмотря на свою молодость, он уже начинал толстеть и заплывать жиром; жилет вплотную облегал его солидное брюшко.