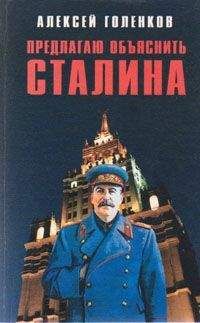Фредерик Стендаль - Рим, Неаполь и Флоренция
2 июля. Случай привел меня сегодня утром к дону Нардо, самому известному неаполитанскому адвокату. В прихожей у него я обнаружил громадный бычий рог длиной футов в десять; он выступает из пола, словно огромный гвоздь. Думаю, что составлен он из трех-четырех обыкновенных бычьих рогов. Это громоотвод против етатуры (против порчи, которую зловредный человек может навести на вас взглядом). «Я понимаю, насколько смешон этот обычай, — сказал мне дон Нардо, провожая меня, — но что поделаешь? Адвокат всегда может нажить себе недоброжелателей, а этот рог меня успокаивает».
Еще примечательнее, что есть люди, верящие, будто им дано наводить порчу. Талантливый поэт, герцог Бизаньо, проходит по улице. Встречный крестьянин с большой корзиной клубники на голове роняет корзину, и клубника рассыпается по мостовой. Герцог подбегает к крестьянину: «Друг мой, — говорит он ему, — уверяю тебя, что я даже не взглянул в твою сторону».
Сегодня вечером в беседе с одним почтеннейшим человеком я подсмеивался над верой в етатуру. «А читали вы книгу Николая Волитты о етатуре? — спросил он. — Цезарь, Цицерон, Вергилий верили в нее, а люди эти стоили не меньше нашего...» И, к своему невыразимому удивлению, я убеждаюсь, что мой друг верит в етатуру. Он тут же подарил мне маленький выточенный из коралла рог, который я и ношу на часовой цепочке. Когда у меня возникнет страх перед дурным глазом, мне надо будет пошевелить его, стараясь обращать острием в сторону злого человека.
Один купец, очень худощавый, с красивыми, немного еврейскими глазами, приезжает в Неаполь. Князь *** приглашает его к обеду. Один из его сыновей сажает рядом с купцом некоего маркиза и после того, как все вышли из-за стола, говорит ему: «Ну, что вы скажете о своем соседе?» «Я? Ничего», — отвечает удивленный маркиз. «Дело в том, что говорят, будто он немного етаторе». «И дурную же шутку вы со мной сыграли! — говорит, бледнея, маркиз. — Надо было предупредить меня хоть на минуту раньше, я бы выплеснул ему в лицо мою чашку кофе».
Необходимо разбить столб воздуха между глазом злого волшебника и тем, на что он смотрит. Выплеснутая жидкость очень для этого подходит; ружейный выстрел еще лучше. Змея или жаба именно в качестве етаторе пристально глядит на птичку, поющую на макушке дерева, заставляя ее спускаться все ниже и ниже, пока она не упадет им в пасть. Возьмите большую жабу, бросьте ее в стеклянный сосуд со спиртом: она там издохнет, не закрывая глаз. Если через сутки после ее смерти вы посмотрите ей в глаза, вас настигнет етатура, и вы упадете без чувств. Я предложил подвергнуться подобному опыту, и мне ответили, что я лишен веры.
Вот факт, относящийся к 1824 году. Дон Иорра, директор музея в Портичи, человек весьма почтенный, имеет несчастье слыть етаторе. Он ходатайствовал перед покойным неаполитанским королем Фердинандом об аудиенции, которой этот государь поостерегся его удостоить. Наконец через восемь лет, уступая просьбам друзей дона Иорре, король принимает директора своего музея. В течение двадцати минут, пока длилась аудиенция, он чувствовал себя очень не по себе и все время вертел в пальцах маленький выточенный из коралла рог. На следующую ночь с ним случился апоплексический удар.
Когда я был у дуврских утесов, мне говорили, что нервный человек, стоя на краю пропасти, испытывает желание броситься в нее.
В Норвегии верят в етатуру так же, как в Неаполе. Хвала королю Франческо!
15 июля. Вечера у г-жи Тарки-Сандрины в Портичи. Прелестная гостиная в десяти шагах от моря, от которого нас отделяет только рощица апельсиновых деревьев. Лениво плещет прибой; вид на Искию; мороженое чудесное. Я приехал слишком рано, и на моих глазах прибывают десять или двенадцать дам, видимо, принадлежащих к самому избранному неаполитанскому обществу. Г-жа Мельфи в течение трех лет разделяла изгнание своего мужа. Зимы она проводила в Париже и вернулась с двадцатью или тридцатью сундуками модных туалетов. Ее окружают, слушают. «Красивый молодой человек очень хорошего происхождения, — говорит она, — сделал мне в Париже следующее признание: «После того как я перестал танцевать, я уже не так скучаю в обществе. Забота о том, чтобы пригласить хозяйку дома, удержать за собою место, обеспечить себе подходящего визави, весь вечер не давала мне покоя». Поразительно верное изображение парижской цивилизации. Удовольствию навязываются такие формы, что от него ничего не остается.
«Когда ко мне приходит кто-либо из друзей, — говорит г-жа Мельфи, — я тотчас замечаю, пришел ли он, заранее решив сделать визит или же повинуясь brio, внезапному побуждению, возникшему у него в момент, когда он проходил мимо моего дома. Говорят, что эта огромная разница совершенно ускользает от ваших французских дам: им делают лишь заранее обдуманные визиты — прекрасный результат строгих требований к костюму.
В Англии воспитание уравнивает: сыну пэра для того, чтобы отличаться от сына мистера Коутса, остается только аффектация. Этот противный недостаток перейдет и к вам во Францию. Ваши дурни-либералы воображают, что правительство общественного мнения имеет одни лишь положительные стороны. Как-то я сказала одной своей парижской приятельнице: «Какая прелесть ваши бульвары, какие забавные лица там попадаются!» «Да, — ответила она с каким-то еле уловимым оттенком педантства, — но прогуливаться там не следует». Я не смогла сдержаться. «Не следует тем, — сказала я, — кто подражает первому встречному. Но у вас, дорогая, дочери пэра, рожденной в богатой семье, у вас, надеюсь, хватит гордости никому не подражать. Кто мог бы служить образцом, если не вы? Какая-нибудь нахалка, не имеющая на то права».
Некогда блестящий герцог де Бассомпьер[374], отправляясь на прогулку, не помышлял о том, что может уронить свое звание. Современные понятия на этот счет отдают выскочкой. По поводу недопустимости гулять на бульварах герцог де Бассомпьер сказал бы: «Я иду, куда мне хочется. Мое присутствие облагородит любое место, где я нахожусь». Страх показаться смешным (страх — гнусное чувство) отнимает юность у доброй половины молодых парижан.
При мне один молодой человек отказывался пойти на отличный концерт, где должны были петь все молодые артисты и где, по счастливой случайности, можно было не скучать. Он приводил следующую причину: «Там будут женщины с улицы Сен-Дени[375]». На следующий день я сказала ему: «Пожалуйста, больше за мной не ухаживайте: вы мне кажетесь смешным». Королева Мария-Антуанетта садилась в наемный экипаж, когда это ее забавляло. В 1786 году вы умели смеяться и не продавались, — сказала г-жа Мельфи, обращаясь ко мне. — Когда полгода назад я видела в какой-нибудь гостиной человек сорок из высшего общества, мне приходило на ум: тридцать шесть из них продались или готовы продаться, и эти господа называют нас, итальянцев, низкими! Но мягкость парижских нравов изумительна! Кошки, в Лондоне такие злые, в парижских лавочках ласковы и цивилизованны: это делает честь вашим работницам. А кротость парижских псов — заслуга мужчин.
Но каких усилий стоит вам прививать тщеславие четырехлетним детям! Сколько аффектации в одежде! Лет через десять самым важным для француза будет казаться. Вы начинаете вырабатывать себе строгую обрядность, боюсь, что вы сделаетесь такими же унылыми, как англичане. Вы скоро даже высморкаться не сможете, не опасаясь нарушить какое-нибудь правило.
В ваших старых якобинцах мне нравится то, что они были выше всех этих пустяков: чтобы с корнем вырвать их из сердца молодежи, они изобрели нарочито небрежный костюм Марата. Ваши двадцатилетние юноши производят на меня впечатление сорокалетних мужчин. Можно подумать, что женщины им противны: они словно мечтают установить какую-то новую религию. Совсем юные девушки у вас тоже, по-моему, как-то чуждаются мужчин. Все это обещает на ближайшее будущее десяток веселеньких лет.
Госпожа Б. сказала однажды: «Музыка не в состоянии передать сухости, являющейся главным источником скуки, которую всегда испытываешь при дворе. Лекарство от этой болезни — opera seria, исполняемая в манере Метастазио. Подобно музыке, этот поэт придает чувственность и некоторое великодушие даже самым жестоким своим тиранам. Придворный любит opera seria — ему приятно, чтобы публика видела его положение приукрашенным».
«Когда я приехала в Париж, — сказала г-жа Мельфи, — меня крайне поразила одна вещь на балу: боязнь, которую постоянно испытывали танцующие, делала какими-то судорожными движения их пальцев. Столь естественное для молодежи чувство радости или хотя бы веселья было бесконечно далеко от них». «Вот это забавно, — заметил полковник Текко, — во французском обществе каждый соглашается быть жертвой в надежде, что и ему удастся стать палачом. Ибо в конце концов к чему такое раболепство перед боязнью оказаться смешным? Разве она царствующая особа, раздающая пенсии и ордена?» «Хорошему обществу Парижа, — сказал дон Франческо, — больше всего ненавистна энергия. Ненависть эта маскируется самыми разнообразными способами; но будьте уверены, что все чувства движутся ею. Энергия порождает непредвиденные положения, а перед лицом непредвиденного тщеславный человек может растеряться: вот ведь в чем беда!»
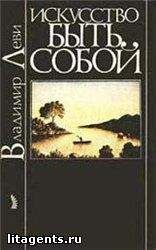

![Дмитрий Покровский - Словарь церковных терминов [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)