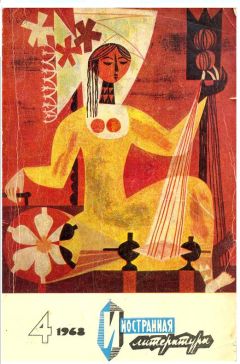Альваро Кункейро - Человек, который был похож на Ореста
III
Лодочник пристроил свой шест на двух железных крюках пирса и уселся на ступеньку. Спустив к воде свои длинные ноги и покачивая ими, он закурил большую сигару, скрученную из черных листьев табака. Дым, выходивший из его рта и носа, ненадолго зависал мягкой голубоватой дымкой над полями шляпы — день был тихий, ни ветерка, — а потом рассеивался. Широкая река медленно несла свои воды среди зеленых холмов; на лугах паслись стада. Животные за день постепенно спускались с горных пастбищ к долинам. По вечерам отары шли на водопой, каменные корыта стояли на ступенях, и струйки сбегали сверху вниз — баранам больше нравится проточная вода. В центре баркаса был устроен помост со столбом посередине: к нему привязывали своих лошадей путники, приезжавшие на берег верхом. В дни церковных праздников лодочник привязывал на столбе древко с черно-золотым флагом какого-то никому не известного царства. Этот флаг подарил его деду давным-давно один странник из далеких краев, которые назывались страной Вадо-де-ла-Торре. Не было мест прекраснее этих: луга, тополиные и березовые рощи, река, что широко разливалась по весне. У подножия каждого из пяти холмов в затишке; стояли деревни; крыши беленьких домиков тонули среди черешневых деревьев и смоковниц, между выпасами тянулись рядами яблони.
Выкурив сигару до половины, лодочник потушил ее и спрятал окурок в кожаный кошелек, висевший у него на поясе. Офицер Иностранного ведомства устроился на носу лодки и, казалось, был целиком поглощен наблюдением за форелью — стоило только упасть в воду кузнечику или зазеваться лягушке, поджидавшей муху, как рыбы молниями устремлялись к берегу, к зарослям тростника, чьи ярко-желтые венчики говорили, что расцвел он совсем недавно.
— Люди приходят сюда и уходят, сеньор Эусебио, и моя переправа подобна большим театральным подмосткам жизни. Ну, возьмем, к примеру, каменщиков тридцати лет — таких в неделю пройдет пара дюжин. Людей в синих камзолах за то же время полдюжины наберется — жители прибрежных городов этот цвет любят, так же как те, что вдали от моря живут, предпочитают зеленый, а крестьяне — черный. И всадников проезжает немало, потому-то я и сделал столб на своем баркасе, и знакомых лиц всегда много, взять хотя бы торговцев шерстью или слуг из монастыря Симона Петра, которые каждый раз перед Пасхой и перед Сан-Хуаном отправляются ловить рыбу и увозят пудами форель да угрей для своих хозяев, что блюдут строгий пост. Так вот торговцы шерстью и слуги из монастыря каждый год появляются. Кто еще? Знаю я вельмож из города, тех, у кого есть виллы в долине реки, недалеко от ущелья; а еще тех, кто приезжает покупать дерево или перевозит со своих виноградников на низком берегу реки вино в бурдюках. Ну, про этих я знаю все: и сколько лет их мулам, и как каждый бурдюк называется. Ты слыхал, они дают им имена святых мучеников. Сотни знакомых лиц! А когда грянула война, мимо меня прошли толпы людей — сотни незнакомцев! Всякий лодочник — Харон, сеньор Эусебио, и перевозит весь род человеческий на своей лодке.
Так сказал лодочник Филипо и устремил свой взгляд на его превосходительство офицера Иностранного ведомства, который выразил свое согласие с этими рассуждениями кивком головы.
— Ну, а если тебя интересуют путники странные и диковинные, вот мой список, и возглавляет его чудовище о двух головах. Одна, белокурая, была женской, а другая, черноволосая, — мужской.
Родители чудища показывали его за полреала на ярмарке в день Святых Безгрешных. Женская головка знала лишь чистые помыслы, целыми часами грезила об ангелах, порхающих меж цветов, и просила подыскать ей учителя, знатока религиозной поэзии. А у мужской башки один блуд был на уме, и сладострастник без конца твердил родителям, что часть выручки надо пустить на поиски какой-нибудь грудастенькой бабенки, которая бы скрасила ему жизнь. Женская же голова умоляла дать ей яду, если только такая особа объявится, ведь она совсем беспомощна. Это соответствовало истине, ибо руки и ноги урода подчинялись приказам мужской головы, да и все тело его было мужским.
Мне говорили, что по совету одного римского мудреца родители решили отделить женскую голову и оставить развратника на свободе — пусть живет как знает. Для белокурой праведницы сделали специальную подставку из четырех свиных мочевых пузырей, которые всегда должны были быть наполнены теплым воздухом. Поддерживать тепло оказалось довольно сложно, но игра стоила свеч: они показывали свою говорящую голову в больших городах и зарабатывали кучу денег. Один человек из Буэнос-Айреса, переправлявшийся здесь года два тому назад, рассказывал, что видел ее в родных краях, а показывали ее два ливанца, которые просто купались в золоте.
Филипо встал и пошел промочить горло на корму, где у него висел бурдюк, а потом присел рядом с сеньором Эусебио.
— Позволь тебе сказать, ваше превосходительство, я отлично знаю, зачем ты пришел. Вспомни как следует — ты и раньше не раз меня допрашивал. Однажды, когда появился тот всадник с двумя мечами, даже пытать хотел — нет, я понимаю: виной тому порядки в нашем суде, и вовсе на тебя не в обиде. Помнишь, к нам явился прекрасный юноша на буланом коне в остроконечной шляпе с алыми перьями, который мог растворяться в воздухе. Его загадку сумел разгадать тот проныра корзинщик, что плел кошелки для монахов, по имени Фенелон. Оказалось, пришелец был видим только на коне, а если он спешивался и делал тайный знак, то испарялся и оставался невидимым до тех пор, пока ему не требовалось справить малую нужду — тут ему непременно приходилось обретать зримый облик.
— Сие наблюдение лишь подтверждает положения греческих теологов, исследовавших вопрос о необходимости в своем извлечении о чудесах, — заметил сеньор Эусебио.
— Если бы этот человек оказался тем, кого вы столько лет ищете и чье имя я не называю, ибо предпочитаю держаться подальше от политики, от царей бы уже и мокрого места не осталось.
Тут вдруг из зарослей тростника вылетела стрекоза, и оба замолчали от неожиданности. Жаворонок пел где-то неподалеку, а вечер, кутаясь в золотую накидку, медленно спускался на землю.
— Нет, то был кто-то другой, — сказал сеньор Эусебио, — однако я всегда подозревал, что сей таинственный рыцарь пытался увидеть инфанту. Сам знаешь, дело это непростое, даже если пешим ты невидим. Донья Ифигения живет в новой башне дворца — дверей там нет совсем, и все, что понадобится, поднимают и спускают в корзине на веревках. Принцесса же может ездить вверх и вниз в специальном кресле с зеркалами. На окнах первого этажа — решетки, а остальные закрыты наглухо и даже опечатаны: царица боится, как бы девушке не пришло в голову выброситься из окна во время приступа меланхолии, который случается у нее каждый месяц.
— Ты говоришь «девушка»? Сколько лет подряд мы зовем ее так?
— Называть инфанту по-другому — значит не уважать Конституцию. К тому же ты затронул сейчас один из самых интересных для меня вопросов: тему вечной юности. Если когда-нибудь меня изберут сенатором, то свою речь при вступлении на этот пост я посвящу именно ей. Доводилось ли тебе слышать об островах вечной весны? Ты отправляешься туда, приезжаешь однажды в полдень и пребываешь там, здоровый и счастливый, долгие лета, а может, даже века. Вода из чудесного источника не дает тебе стареть, ты всегда остаешься тридцатитрехлетним — согласно александрийской школе и флорентийским неоплатоникам,[5] таков идеальный возраст человека. Тебе дозволены лишь возвышенные чувства и вегетарианская еда. Можно читать, гулять, слушать музыку, играть в кегли. Ты спишь, положа голову на сноп ирисов, беседуешь с нимфами, любуешься закатами; тебе нет нужды надевать пальто, и нет в том мире «моего» и «твоего». В Ирландии, правда, возник диспут: являются ли по крайней мере носовые платки и нижнее белье личной собственностью, и был даже объявлен конкурс на лучший трактат, посвященный данной теме, но я не знаю, чем все кончилось. Ученые мужи с островов вечной молодости, каковые зовутся еще Флоридскими, единодушны в том, что для сохранения постоянной весны тела человеку следует забыть о чувственных удовольствиях и предаться одной-единственной мечте, которая должна захватить все его существо. Выполнение этого условия не менее важно, чем чудесная вода из источника Юности. Обитатели Флоридских островов, подобно пармским картезианцам, что повторяют изо дня в день в своих обителях «morir habemos»,[6] говорят денно и нощно вслух о своей мечте и в конце концов видят ее наяву, словно на театральных подмостках или во время пасхального шествия. Не потерял ли ты нить моего рассуждения? Я сейчас излагаю тебе свою теорию вкратце, чтобы стала ясна ее суть. Итак, мы приходим к такому заключению: и без всяких Флоридских островов, здесь, в нашей стране, далекая от всех земных забот, наша донья Ифигения может сохранять вечную молодость, пока лелеет единственную мечту. С ней она засыпает и с ней просыпается, находит ее отражение в зеркалах и провидит ее тайные знаки во всем — в летнем дожде и в улыбке ребенка, даже в том, куда промчался по коридору кот. Инфанта знает, что для исполнения желания она должна оставаться молодой: юность Ифигении — столь же необходимое условие отмщения, как и меч принца-мстителя.