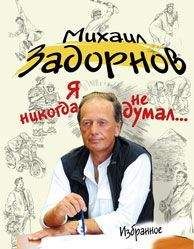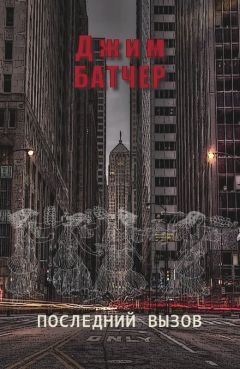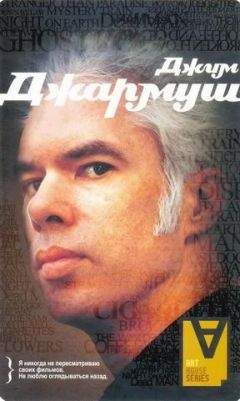Михаил Осоргин - Собрание сочинений. Т. 2. Старинные рассказы
Поехал английский мореплаватель Ричард Ченслер[20] открывать новый путь по холодным морям. Испокон веков англичане суются туда, где их не ждут и куда их не звали. Ледяные поля, ледяные горы, полыньи, торосы, глетчеры. Самоеды, олени, собаки, полозья, моржовый жир. Белые медведи, киты, тюлени, пингвины, перелетные гуси и утицы. Ничего не делается аглинскому человеку, потому что ему уже известна дымная прелесть носогрейки; нового пути не открыл, а попал к нам в устье Северной Двины — местечко забавное и достаточно прохладное, а оттуда пробрался и на Москву, к царю Ивану Грозному. Царь Иван Васильевич встретил его приветливо: «Мы торговать очень согласны, — чего изволишь, именитый купец?» Ченслеру понравился наш пушной товар, и наши леса, и тогдашняя наша советская паюсная икра. Говорит; «Со своей стороны можем в обмен предложить английский пластырь, лондонский туман и уморительную травку — и жевать, и курить, и в нос пихать». На этом согласились. Съездил Ченслер домой, привез табашного зелья, забрал наших соболей и куниц, а на обратном пути погиб славный купец и мореплаватель: Бог его покарал за такое жульничество.
Надо думать, что Ченслер завез к нам не только сушеный лист, а и семена благодатного растения. И хотя нелегко прививалось у нас в те времена европейское просвещение, но этот подарок понравился, и повсюду, где климат был теплее, зацвели розовые и зелено-желтые цветочки; от солнца прятались, к ночи распускались пышно. От дней Ивана Грозного до дней Михайлы Федоровича[21] русский человек беспрепятственно пил табак носом, клал его за губу и пускал дымом. Когда же эта сладостная отрава, по царской воле ввезенная и царями благословленная, пройдя весь путь от Москва-реки до реки Иртыша, полюбилась всему русскому народу («Табак да баня, кабак да баба — только и надо!») — тогда стали табашников преследовать, по государеву приказу отымать табак сырой и толченой, и дымной, и на полях сеяной, а кто его жевал, курил и пил с бумашки, тем людям приказано было чинить жестокое наказание: метати их в тюрьму, бити их по торгам кнутом нещадно, рвати им ноздри, клеймити им лбы стемпелями, дворы их, и лавки, и животы их, и товары все имать на государя. А самый тот табак приказано жечь, чтобы однолично табаку нигде, ни у кого не было, а кто наказан, про тех людей велеть бирючу о том их воровском деле кликать по многие дни и с тех табашников брать заповеди и поручные записи, чтобы впредь им не воровать, табаку самим не пить и никому не продавать.
Горе пошло на Руси!
Ленский воевода стольник Петр Головин сам пивал и жевал табачище; однако, государев приказ получивши, строго наказал пятидесятнику Богдану Ленивцеву имать табак у всякого и виновного представлять на воеводский суд.
Пивал с бумашки и за щеку кладывал и Богдашка Ленивцев, да нечего делать: поймал с поличным Семена Сулеша, да Мартынку Кислокваса, да Ондрюшку Козлова, да еще многих табашников, — а против поличного нет отвода. Тех людей уличенных бил кнутом на козле енисейский палач Ивашка Кулик. Но нет такой силы, которая осилила бы соблазн душистого заморского цветка, крепко прижившегося и на земле и в тавлинках. От кнутового битья пластом лежат и Мартынка Кислоквас, и Семен, и Ондрюшка, а доносчик Ленивцев с палачом Куликом, покончив работу, тянут носами отобранное добро, косясь друг на друга: кто кого раньше в таком деле выдаст головой?
Все у нас грубо и жестоко. В просвещенной Европе было гораздо полегче: римский папа Урбан Восьмой положил на табак проклятье, а табашников велел отлучать от церкви; папа Иннокентий и нюхал, и покуривал, однако запрещенье подтвердил — не к чему народ портить; папа Бенедикт недаром был тринадцатый: и сам курил-нюхал, и всем разрешил дьявольское зелье. Но доброго папу римского опередил наш Великий Петр, усердный ценитель всякого пьянства и похмелья: с 1697 года опять стала вся Россия и за губу совать, и в нос сыпать, и дымом пускать то зелье невозбранно и беспрепятственно.
Что кому по достатку. Сирый и бедный тянул тютюн; кто поразборчивей — бакон и махорку. Одному по вкусу табачок папушный и шнуровой, другому — бунтиковый, иному — рубанка, а тому трапезунд, американ, унгуш. Саратовский житель держался колонистского, приезжий требовал канастера, амерсфорта, самсона, дюбека; если же человек немецкой выучки, то подай ему винцера, гунди и фридрихсталера. И умел опытный и привычный трубакур не по цвету, так по дыму, сразу угадать: этот — виргинский, энтот — мариландский, а тот — фиалковый, попросту крестьянский.
Близко к нашим дням гремел в России повсеместно табачок жуков, при длинном чубуке — сладкое наваждение! А кто баловал нос, те в тертый табак клали малинку, а то гвоздичку, а то и фиалку. Нюхали нафырок, с ногтя большого пальца, огородив его указательным; нюхали и насоколок, из ямки меж тяжей пальца большого; а испанский табак нюхали только с кончика пальца, иначе пропадала тонкость понюшки. От старых времен, от кнута, рванья ноздрей и клейменья осталась поговорка: «Пропал ни за понюшку табаку!» Понюхав — чихали многократно, утирая нос и усы цветным платком и говоря друг другу: «На здоровье!»
Памятью благодарной вспомним и наше недавнее прошлое. Доктор курил месаксуди, адвокат — стамболи, эсер — асмолова крепчайший, эсдек — вышесредний, а кадет, — конечно, мешаный, середка наполовину. И только на одном сходились все партии — на рисовых гильзах Катыка, 250 шт. 18 к. Ныне же все народы земли российской, от Ленинграда до Камчатки, курят сорт единый: советский; едины и гильзы: марксистские. Тот самый сорт, про который сочинен немцами короткий рассказ об охотнике.
Шел охотник по лесу и встретил черта. Черт увидал ружье и спросил:
— Это что за штука?
— Табакерка.
— А ну, дай понюхать!
Охотник выпалил в черта, а черт чихнул и прибавил:
— Дас ист штаркер[22] табак!
* * *— Несть ли сие вред, яко нос, исполненный сего зелия, изрыгает, яко гора Везувий, нечистые и отвратительные извержения, зане всякому гнушатися и отвращати лице свое?
— Сказано: «Очисти нос твой, яко трубу рожану, зане ветром веяти и вихрям играти».
Спорили о табашном зелье великие начетчики, писали о нем богословы, ученые и просто писатели-табашники, и Чехов — лекцию «О вреде табака»[23], и Ремизов — заветный сказ «Что есть табак?».[24] Чехов не договорил, Ремизов переложил, дым вьется струйкой одинаково.
Сей злак есть поганое, блудное, сатанинское зелье. К ревнителям старой веры и душевной благости пробирался он потайной дверью и совращал младых и поживших. Бежали его духоборцы, гнали штундисты, проклинали молокане, хулили постники, осуждали равно и беспоповцы, и белопоповцы, и бегуны, и скопцы, и имебожники, и непокорники, и чемреки, ветвь Старого Израиля, и баптисты[25], и сам Лев Толстой. Кто курил табак, тот хуже пьющих горелое вино и бобом ворожащих! Открещивались от него истовым крестом: большой перст через два великие персты подле меньшого перста и середней великий перст пригнув мало. Но враг рода человеческого силен!..
Говорили староверы:
— Кто нюхает табаки, тот хуже собаки.
Отвечали им табашники:
— Кто курит табачок, тот Христов мужичок!
И тянули нафырок сыромолотного зеленчака, вертели собачью ножку.
Тюремные стены одолел! Не дают заключенному ни хлеба, ни мяса, только помойную бурду, — а в табаке отказать не Могут. Идущему на смертную казнь — последняя утеха в папиросе. И против всякого горя — испытанное средство с давних лет: «Табаку за губу, всю тоску забуду!» Из всех потреб нужнейшая, из всех надобностей малейшая: «Ребятишкам на молочишко, старику на табачишко». И когда уж совсем плохо, все пошло прахом, тогда говорят: «Дело — табак».
Бежит по реке пароход, на носу матрос-меряльщик. Когда нет дна, кричит: «Не маячить!», когда мель — считает четверти, а если в самый раз, только-только шест царапает по дну, тогда звучит бодрое: «По табак!»
Хлеб-соль вместе, табачок врозь. Последнюю рубашку отдают, глазом не моргнувши, а последнюю папиросу иностранец не даст ни за что, да и русский только «на затяжку», сам из руки не выпуская.
Знаменит табак и во французском участке.
Табакерками жаловали, советскими папиросами жалуют знатных приезжих дипломатов и сейчас. У Лескова в «Леди Макбет» обозвал Сергей Фиону «мирской табакеркой» — обидное название! Но лучше всего говорят про табакерку, уличая святошу и ханжу в нечистой совести:
— Свят, да не искусен: табакерочка в рукаве выпятилась!
* * *С заката до восхода солнца благоухает никотиана табакум, цветок из семейства пасленовых, пятитычинковый родственник ночной красавицы, одурь-красавицы (беладонны), белены, дурмана, крушины и своего соперника по власти над человеческим родом — винограда. Человек сушит лист, режет, крошит, пакует, набивает, зажигает — и сладкий дымок окутывает всю землю. Там, где табак не растет, там за него отдаст самоед жену, эскимос — стадо оленей. Поэт окуривает рифму, художник полотно, философ идею. Больной сердцем запивает дымом дигиталис и камфору. У старика, немощами пододвинутого к краю могилы, последняя надежда: «Брошу курить!» И о последнюю свою папиросу он закуривает новую, с которой и отходить в вечность — легко, в ароматном облаке, с затуманенной головой. На том свете его ждут курильщики, раньше закончившие земные дела: не донесет ли на одну затяжку? Ангелы его окружают: хоть и воспрещено, а хочется и им. Вот какая сила у скромного на вид цветка! К нему подлетают мотыльки с длинным хоботом, похожим на дамский мундштук, и пьют, трепеща крылышками; мотыльки вечерние и ночные, серые, расписные, запойные, на дневных непохожие. Липкими волосиками ствола и листьев он защищается от мелких букашек, иначе пропасть бы ему от тьмы горьких пьяниц и наркоманов мелкоскопического мира, — ему, призванному услаждать серое бытие крупных двуногих животных и обогащать государственные казны гражданским порохом.