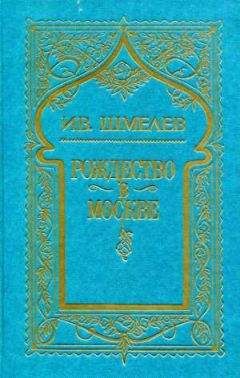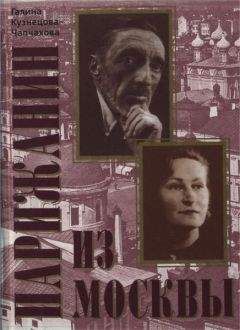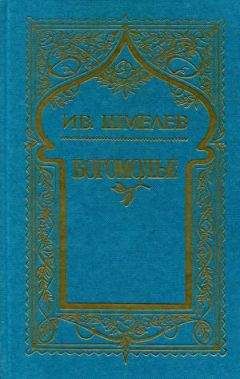Иван Шмелев - Няня из Москвы
V
Бывало, скажут: не миновать – Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленые, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кроватке, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры, – вот и молись. И что я вам, барыня, скажу… – с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распостраняется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела – опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:
«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная… не к добру это».
Дернулась она, да с сердцем на меня так:
«Что ты мелешь? почему – не к добру?!.» – а затревожилась.
«К пустоте, – говорю, – пауки одолевают… думатся так, по-деревенски».
«А, глупости… любишь всегда тревожить!»
А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело… ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зерькала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.
За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать-улащивать:
«Ах, тетечка… ах, милая… совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно… а мыто скучаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым совусом, и грушки душестые, по зубкам вам… а Катюньчик без вас жить не может…»
Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выгрышный билет ей… А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всурьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощенья барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись… И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все… А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать сбираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлецать… И место кому за столом какое – ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили… только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!
Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, заквохтала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть…
«Ай, что такое, не пугай, Костинька… или опять накуролесил?..»
А она часто мирила их. А он рыдает!..
«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли… поглядите на эту тень!..»
А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит…
«Что ж вы мне раньше не сказали?! как можно запустить?!.»
Она сразу тогда – де-сять тыщ! Так всю и обглодали помаленьку. Проводят – и давай по зале танцевать. «Ах, милая старушка… ах, славная дите!» – так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили-шутили да и нашутили. А вот доскажу. А померла она – и похоронить не в чем было, – в простом так гробу и схоронили, с одним-то факельщиком. И панихидки от них не дождалась. И старичку-лакею ее не пришлось за пять лет зажитого получить. Они ему старый умывальник заместо того отдали да царский партрет большой, старого царя.
А именьице она еще вживе Катичке отдала, летом на дачах жить. Мы с ней там и живали, а они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крокет приезжал играть к нам. Тогда еще, примечала я, Катичка ему ндравилась. Ей годков десять было, а высокенькая уж была, в папашеньку, а ему к пятнадцати, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая… говорить Катичку по-ихнему учила, гордая да капризная… – все мы ее «кислая кошка» звали. А так обучила хорошо, все вон теперь дивятся, так за англичанку и признают, очень способная Катичка. А Кислая и влюбись в барина! Как на икону на него молилась. Так-то она недурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у них с барыней вышло, она и разочлась, сумочкой в барыню швырнула. А Катичке сказала – «всегда для вас все готова сделать!» И что же, барыня… ведь она как нам тут пригодилась, в загранице! Через ее мы англичанами чуть не стали, в Костинтинополе когда бились… Она бо-знать чего про нас наплела, чуть ни царского роду мы с Катичкой, письмо послала старичку одному англичанскому со старушкой, а они по морям катались, вот к нам и приезжают, к «Золотой Клетке», где мы служили… ресторан такой. И свой корабль у них, страшенные богачи… И вправду, уж я по порядку лучше.
Да, так вот тетеньку и похоронили.
VI
Верно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них утех-то было, на каждой тумбочке! Да они всегда порядочные были, худого слова про них не скажу, верно вы говорите, – а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор-лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутошнику сказывал. А бутошник у нас заслуженный был, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вот мне крестник и сказывал… рыбкой он в Охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, наважку, копчушечек… – придет и шепнет:
«А у доктора новенькая завелась, в Таганке».
А то на Арбате. А барыня и не чует. Начнет как барыне душестых груш привозить либо цветы в корзинках, так я и примечала – новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня… живая правда. А барыню дострасти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови, по дедушке, а потом их из графов отменили… барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профуфукали за хорошие дела… а она в слезы, его корить – «а ты подзаборный мещанин!» Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая, на ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок: «ах, галочка моя… ды-ах, цыганочка моя… ах, перышка моя!..» – заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для прахтики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня, деньги у кого вольные да человек веселый! И закону у них не было, строгости-соблюдения, и в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили, – «все теперь наши бабы!» От Бога отказались, досыта лопали, ну и… – «у нас, – говорит, – кровь играет… на сладкое положение выходим!» Вот гроза-то на нас нашла, за Катичку как дрожала… расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни.
И в хороших семействах у них бывали, из прахтики. Да в разных… На энтих уж он не тратился, а все партреты свои дарил, на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, с аршин, самые уж уважительные. Да забыла я, барыня, фамилии, где ж упомнить. Андра-шкина?.. Помнится, была… Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще, в ресторане-то застрелилась, в заграницу ее увезли после. Да Господь с ними, барыня… Нет, Старкову что-то не припомню… А Локоткову, может, слыхали… у них меховое дело было? Тоже уважительная была; шубу барину какую сделали, за двести рублей, а ей цена за две тыщи. Тогда барыне соболью буу барин подарил, что-то недорого тоже, а какая буа-то… от мамаши Катичке досталась.
Как не знать, и барыня про партреты знала, а умел так разговорить, – для прахтики так надо, пациенки желают, из уважения. Это уж все потом раскрылось… и вспомнить страшно, – в наказание так Господь послал. А то и в испытание… Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была-а… расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которые, пациенки. Растревожится она, закричит:
«Негодник ты негодный, бабник ты, юбошник… не смей до меня касаться!..» – кулачками так затрясет. А он ей, удивится словно:
«Ты что, милая… белены объелась?..» Она ему в лицо шварк – письмо! «А это что?!. Негодный ты, порститут!..» Повертит письмо, плечом подернет… «А, стерьва… – скажет, – теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу!..» Она и рассахарится, поверит словно: «Да-а… – скажет, – актерщик ты известный!» Всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, – и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп, и на свое взаседание, на всю ночь.