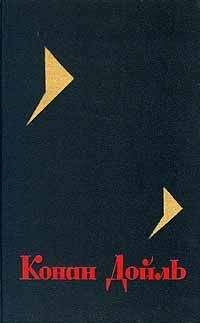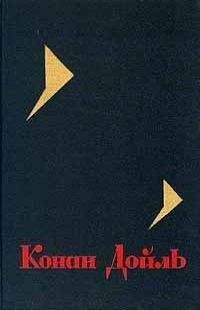Михаил Салтыков-Щедрин - Благонамеренные речи
– Очень уж вы, сударь, просты! – утешали меня мои м – ские приятели. Но и это утешение действовало плохо. В первый раз в жизни мне показалось, что едва ли было бы не лучше, если б про меня говорили: «Вот молодец! налетел, ухватил за горло – и делу конец!»
Дорога от М. до Р. идет семьдесят верст проселком. Дорога тряска и мучительна; лошади сморены, еле живы; тарантас сколочен на живую нитку; на половине дороги надо часа три кормить. Но на этот раз дорога была для меня поучительна. Сколько раз проезжал я по ней, и никогда ничто не поражало меня: дорога как дорога, и лесом идет, и перелесками, и полями, и болотами. Но вот лет десять, как я не был на родине, не был с тех пор, как помещики взяли в руки гитары и запели:
На реках вавилонских – тамо седохом и плакахом… —
и до какой степени всё изменилось кругом!
С тех пор и народ «стал слаб» и все мы оказались «просты… ах, как мы просты!», и «немец нас одолел!» Да, немец. «Долит немец, да и шабаш!» – вопиют в один голос все кабатчики, все лабазники, все содержатели постоялых дворов. И вам ничего не остается делать, как согласиться с этим воплем, потому что вы видите собственными глазами и чуете сердцем, как всюду, и на земле и под землею, и на воде и под водою – всюду ползет немец. В этих коренных русских местах, где некогда попирали ногами землю русские угодники и благочестивые русские цари и царицы, – в настоящую минуту почти всевластно господствует немец. Он снимает рощи, корчует пни, разводит плантации, овладевает всеми промыслами, от которых, при менее черной сравнительно работе, можно ожидать более прибылей, и даже угрожает забрать в свои руки исконный здешний промысел «откармливания пеунов». И чем ближе вы подъезжаете к Троицкому посаду и к Москве, этому средоточию русской святыни, тем более убеждаетесь, что немец совсем не перелетная птица в этих местах, что он не на шутку задумал здесь утвердиться, что он устроивается прочно и надолго и верною рукой раскидывает мрежи, в которых суждено барахтаться всевозможным Трифонычам, Сидорычам и прочей неуклюжей белужине и сомовине, заспавшейся, опухшей, спившейся с круга.
– Чей это домик? – спрашиваю я, указывая на стоящий в стороне новенький, с иголочки, домик, кругом которого уже затеян молодой сад.
– Это Крестьян Иваныча! – отвечает ямщик, – он тут рощу у помещика купил. Вон он, лес-то! Ишь сколько повалил! Словно город, костров-то наставил!
Я смотрю по указываемому направлению и вижу, что вдали действительно раскинулось словно большое село. Это сложенные стопы бревен, тесу, досок, сажени всякого рода дров: швырковых, угольных, хворосту и т. д.
– Кто же этот Крестьян Иваныч?
– Немец. Он уж лет пять здесь орудует. Тощой пришел, а теперь, смотри, какую усадьбу взбодрил!
– Хороший человек?
– Душа-человек. Как есть русский. И не скажешь, что немец. И вино пьет, и сморкается по-нашему; в церковь только не ходит. А на работе – дошлый-предошлый! все сам! И хозяйка у него – все сама!
– А дорого за рощу дал?
– Пустое дело. Почесть что задаром купил. Иван Матвеич, помещик тут был, господин Сибиряков прозывался. Крестьян-то он в казну отдал. Остался у него лесок – сам-то он в него не заглядывал, а лесок ничего, хоть на какую угодно стройку гож! – да болотце десятин с сорок. Ну, он и говорит, Матвей-то Иваныч: «Где мне, говорит, с этим дерьмом возжаться!» Взял да и продал Крестьян Иванычу за бесценок. Владай!
– Отчего же свои крестьяне не купили, коли дешево?
– А крестьяне покудова проклажались, покудова что… Да и засилья настоящего у мужиков нет: всё в рассрочку да в годы – жди тут! А Крестьян Иваныч – настоящий человек! вероятный! Он тебе вынул бумажник, отсчитал денежки – поезжай на все четыре стороны! Хошь – в Москве, хошь – в Питере, хошь – на теплых водах живи! Болотце-то вот, которое просто в придачу, задаром пошло, Крестьян Иваныч нынче высушил да засеял – такая ли трава расчудесная пошла, что теперича этому болотцу и цены по нашему месту нет!
– Однако этот Крестьян Иваныч, если в засилье взойдет, он у вас скоро с лесами-то порешит!
– Это ты насчет того, что ли, что лесов-то не будет? Нет, за им без опаски насчет этого жить можно. Потому, он умный. Наш русский – купец или помещик – это так. Этому дай в руки топор, он все безо времени сделает. Или с весны рощу валить станет, или скотину по вырубке пустит, или под покос отдавать зачнет, – ну, и останутся на том месте одни пеньки. А Крестьян Иваныч – тот с умом. У него, смотри, какой лес на этом самом месте лет через сорок вырастет!
Едем еще верст пять-шесть; проезжаем мимо усадьбы. Большой каменный двухэтажный дом, с башнями по бокам и вышкой посередине; штукатурка местами обвалилась; направо и налево каменные флигеля, службы, скотные и конные дворы, оранжереи, теплицы; во все стороны тянутся проспекты, засаженные столетними березами и липами; сзади – темный, густой сад; сквозь листву дерев и кустов местами мелькает стальной блеск прудов. И дом, и сад, и проспекты, и пруды – все запущено, все заглохло; на всем печать забвения и сиротливости.
– Чья усадьба?
– Величкина Павла Павлыча была, а нынче Федор Карлыч купил.
– Какой Федор Карлыч?
– Немец. Сибирян (Зильберман) прозывается. Хороший барин. Умный.
– Отчего же у него так запущено? – удивляетесь вы, уже безотчетно подчиняясь какому-то странному внушению, вследствие которого выражения «немец» и «запущенность» вам самим начинают казаться несовместимыми, тогда как та же запущенность показалась бы совершенно естественною, если бы рядом с нею стояло имя Павла Павловича господина Величкина.
– Только по весне купил. Он верхний-то этаж снести хочет. Ранжереи тоже нарушил. Некому, говорит, здесь этого добра есть. А в ранжереях-то кирпича одного тысяч на пять будет.
– А много денег отдал?
– Сибирян-то? Задаром взял. Десятин с тысячу места здесь будет, только все лоскутками: в одном месте клочок, в другом клочок. Ну, Павел Павлыч и видит, что возжаться тут не из чего. Взял да на круг по двадцать рублей десятину и продал. Ан одна усадьба кирпичом того стоит. Леску тоже немало, покосы!
– Да что же, наконец, за крайность была отдавать за бесценок?
– А та и крайность, что ничего не поделаешь. Павел-то Павлыч, покудова у него крепостные были, тоже с умом был, а как отошли, значит, крестьяне в казну – он и узнал себя. Остались у него от надела клочочки – сам оставил: всё получше, с леском, местечки себе выбирал – ну, и не соберет их. Помаялся, помаялся – и бросил. А Сибирян эти клочочки все к месту пристроит.
Еще десять верст – впереди речка. На речке плотина, слышен шум падающей воды, двигающихся колес, на берегу, в лощинке, ютится красивая, вновь выстроенная мельница.
– Чья мельница?
– Была мельница – теперь фабричка. Адам Абрамыч купил. Увидал, что по здешнему месту молоть нечего, и поворотил на фабричку. Бумагу делает.
Я уже не спрашиваю, кто этот Адам Абрамович и за сколько он приобрел мельницу. Я знаю. Но мною всецело овладевает вопрос: и это земля, которую некогда прославили чудеса русских угодников! Земля, которую некогда попирали стопы благочестивых царей и благоверных цариц русских, притекавших сюда, под тихую сень святых обителей, отдохнуть от царственных забот и трудов и излить воздыхания сокрушенных сердец своих! Это ужасно! Ведь он, наконец, жид, этот Адам Абрамович! Непременно он жид! Жид – и где? в каком месте?!
А вот кстати, в стороне от дороги, за сосновым бором, значительно, впрочем, поредевшим, блеснули и золоченые главы одной из тихих обителей. Вдали, из-за леса, выдвинулось на простор темное плёсо монастырского озера. Я знал и этот монастырь, и это прекрасное, глубокое рыбное озеро! Какие водились в нем лещи! и как я объедался ими в годы моей юности! Вяленые, сушеные, копченые, жареные в сметане, вареные и обсыпанные яйцами – во всех видах они были превосходны!
– Озеро-то у монастыря нынче Иван Карлыч снял! – оборачивается ко мне ямщик.
– Что ты?
– Истинно. Прежде всё русским сдавали, да, слышь, безо времени рыбу стали ловить, – ну, и выловили всё. Прежде какие лещи водились, а нынче только щурята да голавль. Ну, и отдали Иван Карлычу.
Еще удар чувствительному сердцу! Еще язва для оскорбленного национального самолюбия! Иван Парамонов! Сидор Терентьев! Антип Егоров! Столпы, на которых утверждалось благополучие отечества! Вы в три дня созидавшие и в три минуты разрушавшие созданное! Где вы? Где мрежи, которыми вы уловляли вселенную! Ужели и они лежат заложенные в кабаке и ждут покупателя в лице Ивана Карлыча? Ужели и ваши таланты, и ваша «удача», и ваше «авось», и ваше «небось» – все, все погибло в волнах очищенной?
– Нынче русские только кабаками занимаются, – как бы отвечает ямщик на мою тайную мысль, – а прочее все к немцам отошло.
– Но ведь не все же кабаками занимаются! Прочие-то чем же нибудь да живут?
– А прочие – кто невинно падшим объявился, а кто в приказчики к немцу нанялся. Ничего – немцы нашими не гнушаются покудова. Прохора-то Петрова, чай, знаете?