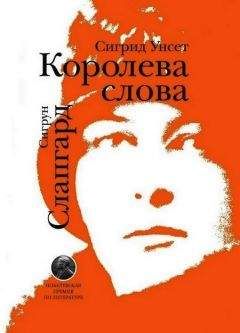Сигрид Унсет - Мадам Дортея
Вильхельм отодвинул брата в сторону и встал на колени. Бессознательно он прикрыл Клауса мешками и попоной. Он не имел представления о том, где они находятся и который теперь час, но не иначе, как была уже глубокая ночь.
Во рту у него был неприятный привкус, в груди жгло. Впереди в санях, прикрытые полостью, съежились два человека. Они храпели, но были неподвижны, как трупы. Борясь с растущим чувством страха, Вильхельм попытался собраться с мыслями.
Они находились на дне глубокой расселины, высоко в небе светила луна, маленькая и почти круглая, было светло и вместе с тем сумрачно. Позади дорога сбегала вниз по крутому склону, впереди — круто уходила вверх, в лес. Вильхельм понял, что проснулся оттого, что лошадь остановилась, а канонада ему приснилась, когда сани застучали по бревнам моста.
Мохнатая пегая лошадка стояла, склонив голову, и тяжело дышала, бока у нее ходили. Вильхельм, потягиваясь, пробрался вперед. Погладил лошадь и поговорил с ней.
— Вот что значит пить водку, — сказал он.
Ему помнилось небо с несущимися красноватыми облаками, его медная краснота отражалась в неровном льду озера, на котором ветер морщил лужи. Когда они вышли из трактира в Сандтангене, солнце, должно быть, уже зашло. Они полагали, что найдут попутчиков, которые довезут их до дому, так, во всяком случае, говорил Даббелстеен. Но Вильхельм не узнавал этой узкой расселины, он был почти уверен, что нигде по дороге между Сандтангеном и стекольным заводом не было такого места. Почему-то ему казалось, что лошадь шла на север.
Да и не на этих санях они выехали из трактира в Сандтангене, те были больше, и в них была запряжена рыжая кобыла. Ничего не понимая, Вильхельм повернулся к съежившимся на санях людям, но лиц их не было видно, а разбудить спящих он не решился. Да это было и невозможно — они спали так крепко, как спят только пьяные. Вильхельм догадался, что один из них Даббелстеен. Но кто же другой и как они здесь оказались? Он ничего не понимал.
Может, это и был тот человек, которого Даббелстеен хотел встретить в Сандтангене? Вильхельму помнилось, будто один раз они выходили из трактира и стояли у каких-то саней, он еще гладил мохнатую светлую лошадку. Значит, пьяный Даббелстеен сел и погнал лошадь куда глаза глядят, а они с Клаусом были так пьяны, что не обратили внимания, куда их везут. Кажется, из Сандтангена они выехали в лес. Но ведь, чтобы попасть домой, они должны были поехать через озеро на юг… Верно, они успели далеко уехать на север — солнце зашло в семь, а теперь, судя по луне, была уже полночь.
У Вильхельма сдавило горло и на глаза навернулись слезы. Ему захотелось разбудить Клауса. Самоуверенность никогда не изменяла брату — интересно, что этот храбрец скажет, когда обнаружит, в какое положение они попали, найдет ли из него выход?
Но Вильхельм тут же устыдился своих мыслей — ведь он старший. Ему было приятно сознавать, что теперь именно он должен придумать, как выйти из положения, и позаботиться о брате и этих двух пьяницах, что храпели в передке саней. Клаус тоже спал непробудным сном, он выпил больше всех. Когда Даббелстеен наконец решил, что им следует выпить, потому что они сильно продрогли во время долгой дороги, Клаус, не раздумывая, опрокинул в себя первую рюмку. Вильхельм же оказался не в состоянии залпом выпить целую стопку вонючей сивухи, он закашлялся, и у него потекли слезы. Сидевшие вокруг засмеялись, а кто-то похвалил Клауса — вторую рюмку тот выпил, уже как настоящий мужчина.
Ветер немного ослаб. Или так только казалось оттого, что они находились в расселине?
Страх и растерянность были столь мучительны, что Вильхельм невольно пытался прогнать все чувства, все мысли, кроме одной: что делать? Он не хотел думать о таинственных делах Даббелстеена, приведших к тому, что они очутились ночью в глухом лесу и он, Вильхельм, оказался единственным здравомыслящим существом среди этих мертвецки пьяных людей, спавших в санях. Они внушали ему чувство стыда — ведь он понимал, что их учитель имел какое-то отношение к блуду и убийству, совершенному где-то на севере долины. Однако связи этого события с их движением в ту сторону Вильхельм не уловил, это смущало его, и мысленно он время от времени возвращался к этой страшной тайне.
Как бы там ни было, сейчас следует выбраться из этого леса. Что подумали домашние, когда они не вернулись?.. Матушка, должно быть, тревожится за них. А отец рассердился. Что он скажет и как поступит с ними, когда они вернутся домой?..
Но Вильхельм не знал, сколь далеко уехали они от дома. Он не знал даже, где они находятся. Сейчас нет смысла поворачивать назад, лошадь, конечно, устала, но она пойдет к своей конюшне и найдет ее. Только бы добраться до людей, а там уж они придумают, как вернуться домой.
Вильхельм тихонько тронул вожжи и причмокнул:
— Но! Пошла, Пегашка!
Лошадь уперлась копытами в доски моста, дернула сани и пошла.
Вильхельм шел рядом и тихонько разговаривал с нею. Это успокаивало его самого. В начале зимы, до того как начались морозы, в долине было много волков. Слышал он и о грабителях — крестьяне нередко возвращались домой без денег, если им случалось ехать пьяными или в одиночку.
Каждый звук, чудившийся Вильхельму сквозь шорох леса и постукивание полозьев о камни, пугал его до дрожи. Он не без злорадства думал о том, как отец встретит господина Даббелстеена, когда они вернутся домой. А вдруг он откажет учителю от места? При этой мысли сердце мальчика сжалось, ему было жалко господина Даббелстеена и вовсе не хотелось расставаться с любимым наставником. Им еще ни с кем не было так интересно и весело, как с ним.
Время от времени лошадь останавливалась, и Вильхельм позволял ей перевести дух. Страшное одиночество, лунный свет, наводящий жуть, темный, шелестящий лес, крутой подъем в этой бесконечной неизвестности — Вильхельм с трудом дышал, вслушиваясь в шорохи и борясь с желанием заплакать, его так и подмывало броситься на спящих в санях людей, растормошить их, растолкать, крикнуть, чтобы они проснулись, — словом, вести себя, как ребенок. Он был голоден, ноги у него промокли и застыли, во рту пересохло, и все время к горлу подступала какая-то горячая отвратительная горечь. Вильхельм злился на Даббелстеена. О доме, о матушке, о сестрах и братьях он старался не думать. Из последних сил он держался за сани, сосал ледышку и приговаривал:
— Ну, ну, Пегашка!
Наконец подъем кончился. Дорога и дальше шла лесом, здесь, в укрытии густых елей, она была еще крепкая. Вильхельм забрался в сани, потеснив безжизненные тела спящих. Несмотря ни на что, он был доволен собою. Лошадь тянула хорошо, местами дорога шла под уклон.
Матушка… Верно, сейчас она ломает руки от страха за них. А они все удаляются и удаляются от нее. Но ведь он тут ни при чем. Конечно, ему не следовало пить водку в Сандтангене. Однако господин Даббелстеен настоял, чтобы они выпили, — иначе они захворают, сказал он. В том, что они пили, он, безусловно, признается матушке. Но ни слова не скажет ей о том страшном, о чем Даббелстеен говорил с Андерсом Эверли, это он знал точно. Вильхельму становилось нехорошо при одной мысли, что его домашние могут узнать об этом. Лучше уж прикинуться, что ему ничего ни о чем не известно.
Вильхельм нашел какую-то овчину и прикрыл ею колени. Ноги у него стали отогреваться, ступни он грел, засунув их между спящими. А вот руки совсем окоченели. Муфта Даббелстеена! Вильхельм вспомнил, что у учителя была с собой муфта, когда они вышли из дома. Кажется, с тех пор прошла вечность, новая волна боли нахлынула на Вильхельма при мысли о заснеженных, залитых солнцем полях, о том, как они с Клаусом катались с пригорков на санках, а длинноногий Даббелстеен, приплясывая, бегал за ними. У него был такой смешной вид — одновременно и щеголеватый и потертый — в старом сюртуке их отца и треугольной шляпе с меховым кантом на отогнутых вверх полях. Он бегал и махал им муфтой. Они собирались только спуститься в трактир Элсе Драгун — Даббелстеен надеялся, что кто-нибудь из возниц захватит его письмо с собой на север долины, письмо было к его матери. «Небось опять хочет клянчить у нее денег», — шепнул Клаус, и Вильхельм рассердился. Так говорить было некрасиво. Но Клаус никогда не понимал, что можно говорить, а чего нельзя.
Может, они и попадут к мадам Даббелстеен, подумал Вильхельм и приободрился. Он много слышал про нее. Говорили, что она писала проповеди для своего мужа. И что умела вызывать и заговаривать кровь. Вильхельму хотелось увидеть эту необыкновенную женщину…
И тут же он вспомнил о матушке: как она, верно, тревожится сейчас за них!.. Ему вдруг сделалось нестерпимо горько, что он едет, сам не зная куда, что ночь так ужасна и что у него больше не осталось сил.
Вильхельм наклонился и потряс пьяных, спящих у его ног. Черт бы их побрал! Незнакомец был бородатый, борода у него намокла и слиплась комками, у Даббелстеена из угла рта текла слюна, он был весь мокрый. Вильхельм брезгливо отдернул руку и вытер ее о попону — нет, уж пусть лучше спят. Однако он не удержался и, усаживаясь поудобней на облучке, пнул их ногой. Это придало ему мужества. Свиньи! Ему приходится одному отдуваться за всех.