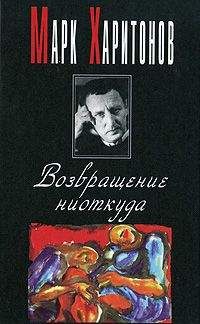Элиас Канетти - Ослепление
Кин или Тереза так и существуют — заключенные в свои мифы, как в капсулу, как в броню. И при неизбежном общении они не вступают во взаимоотношения друг с другом, а непримиримо и болезненно сталкиваются — как изначально чужие, изначально враждебные, друг друга отрицающие миры.
Хотя замысел многотомного цикла автором реализован не был, работа над ним принесла плоды. Техника, за счет которой мир каждого из восьми маньяков обособлялся в отдельное произведение, пригодилась при создании фатально разграниченных миров героев «Ослепления». Для Канетти это по преимуществу техника так называемой «акустической маски», о которой он чаще всего говорит в связи с собственными пьесами.
«Акустическая маска» представляет собой не что иное, как речевой портрет персонажа, только доведенный до того предела, где кончается человеческий, общепонятный язык и начинается примитивный жаргон какой-нибудь Эллочки-Людоедки из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Тем самым «акустическая маска» — и средство характеристики, и порог непонимания героя окружающими, и даже та броня, в которую одевается расплевавшаяся с действительностью особь.
Сцена в полицейском участке — образец «вавилонского смешения языков»: Кин кается в умышленном убийстве присутствующей при сем Терезы, а она толкует его слова как исповедь об умерщвлении некоей первой супруги; блюстители закона видят в Терезе жертву, а в Кине — грабителя; Пфафф ищет защиты у «доброго» Кина и оплакивает себя, совращенного Терезой. Приводными ремнями «смешения языков» как раз и служат «акустические маски». Вот красноречивый образчик: «В этот миг Кин упал. Тереза закричала: — Он лжет! — Он же ничего не говорит, — осадил ее один из полицейских. — Говорить может любой, — возразила она». Такие бессмысленные, обкатанные, словно галька, штампы, то и дело срывающиеся с уст Терезы, действительно и средства характеристики, и пороги непонимания, и броня, в которую рядится Терезина тупость.
Однако стилистика Канетти «акустическими масками» далеко не исчерпывается. Ведь если герои «Ослепления» живут в атмосфере мифов, то подать ее мыслимо лишь изнутри, но никак не снаружи. Значит, не следует зримо отделять зерна от плевел и направлять на читателя указующий перст автора, возмущаться или сокрушаться над несовершенством бытия. Иными словами, приходится побудить повествователя как бы «исчезнуть». Но отнюдь не по-флоберовски — приняв на себя функции бога, невидимого, вездесущего, объективного. Канетти ведь воссоздавал не самое действительность, а ее отражение в мозгах ослепленных «фигур». Отражение это характеризует «фигуры» (что было целью Канетти), но, увы, затемняет реальность (что не было целью, а лишь побочным продуктом). Избавление от этого побочного продукта потребовало особой манеры изложения.
Воображаемое и действительное, субъективное и объективное, ложь и истина подаются в романе нарочито нерасчлененными, катятся единым потоком. Не всегда сразу различишь, где сон, а где явь, случилось ли такое с героем на самом деле или только ему привиделось, придумалось. Порой граница между реальным и ирреальным проходит всего через одну фразу. Так, Кин свалился, доставая с полки книгу, и, будучи погребенным под стремянкой, лишился сознания. Приняв его за мертвого, Пфафф заподозрил в Терезе убийцу. И тут же вообразил себе громкий уголовный процесс, на котором выступает с блестящей разоблачительной речью. «Еще во время речи он заметил, что стремянка шевелится. Он оторопел. На миг ему стало жаль, что профессор жив».
Впрочем, нерасчлененность всегда достаточно условна для читателя. Ведь существуют самостоятельные миры Кина, Терезы, Фишерле, Пфаффа. Своей взаимной нетерпимостью они не только ставят друг друга под сомнение, но, в некотором философском смысле, друг друга «снимают». То, что остается, как после решительного размена фигур на шахматной доске, и есть искомая истина.
Да и сам повествователь не столь уж невидим, как могло бы показаться. Нет, он — не сопровождающий нас по кругам ада Данте. Он — судья, и его оружие — насмешка, ирония, сарказм.
Правда, все это весьма неравномерно распределено в ткани романа. Наиболее гротескна, фантастична и смешна его вторая часть. Колоссальный горб Фишерле, будто магнит, притягивает к себе все комическое и все ужасное. Первая часть может показаться растянутой и скучноватой, третья — несколько умозрительной. Это в большой мере связано и со сменой декораций: сперва однотонность квартиры Кина, затем пестрота городского дна, наконец, в ретроспекции, раздумья Георга Кина и его споры со старшим братом.
Впрочем, смена декораций по-своему тоже высвечивает природу романа. В своих корнях он чужд абстракциям; его почва — жизнь, как она есть.
В «Ослеплении» повествуется о самой что ни на есть обыкновенной жизни, и автор порой дает нам это явственно ощутить.
Вот, вызванный странной телеграммой Фишерле, парижский психиатр приехал в Вену и явился на Эрлихштрассе, 24, где живет брат. «Георг поднялся на пятый этаж и позвонил. Дверь открыла какая-то старая женщина. Она была в крахмальной синей юбке и ухмылялась. Он хотел было оглядеть себя, все ли в порядке, но совладал с собой и спросил: „Дома мой брат?“ Женщина сразу же перестала ухмыляться и сказала: „Здесь, доложу вам, никаких братьев нет!“ Георг Кин — в некотором роде „человек со стороны“. Поэтому, видя Терезу его глазами, мы, может быть, впервые видим ее такой, какой она воспринимается сознанием непредвзятым, нейтральным. Хотелось бы даже сказать: „объективным“, если бы это не порождало новых сомнений.
Ибо что объективнее на самом деле — облик „обыкновенной“ Терезы или образ фурии, в каком она является Петеру Кину? С точки зрения Канетти, вне всякого сомнения, образ фурии. Как, впрочем, и миф о волнующей мужчин красотке, которым она сама себя тешит. Во всяком случае, этот миф и образ много нужнее, чем спокойный взгляд со стороны; без них из замысла Канетти ничего бы не вышло.
Писателю Канетти необходимы суть, квинтэссенция, экстракт души героя. И он беззастенчиво преувеличивает. Но ведь преувеличивает и специально для этой цели созданный Левенгуком микроскоп, ибо иначе бациллу не разглядеть.
В „Ослеплении“ Канетти речь, в частности, идет о бациллах алчности и бациллах страха. Тереза слишком глупа, чтобы всерьез испытывать страх; Петер Кин никогда не нуждался в деньгах, чтобы быть инфицированным бациллой алчности. Остаются Пфафф и Фишерле; они в интересующем нас смысле образцовы.
Алчность — как бы средство активизации энергии, страх — средство ее торможения. Об алчности на протяжении веков сочинены тысячи книг. Страх — специфическая тема XX столетия. Канетти — один из первых „разработчиков“ этой темы, не упускающий, однако, из виду и алчности. Это придает его интерпретации страха характер социальный.
Стоит выплате чаевых со стороны Кина приостановиться, и Пфафф немедленно его предает. Но привратник и без денежной компенсации способен вернуть ему свою „любовь“, если начинает рассматривать его как возможную защиту от угрожающих внешних сил. Такое происходит в полицейском участке, когда Пфаффу кажется, будто наружу может выйти тот факт, что он забил насмерть сначала свою жену, а потом дочь.
Страх побуждает и Фишерле действовать алогично, как бы вступая в противоречие с собственной натурой стяжателя. Банкноты в чужом кармане — для него чистая мука, и он не успокоится, пока их не заполучит. А если терпит неудачу — чувствует себя ограбленным. И все-таки Фишерле добровольно сует банкноты в карман Кина. Во время потасовки у ломбарда их обронила Тереза, а Фишерле подобрал, но с появлением представителя власти поспешил „вернуть“ законному владельцу. И в этом проявляется не честность, не уважение к закону, а именно страх человека „толпы“ перед неограниченностью и всевластием власти.
Роман „Ослепление“ не просто связан с „Массой и властью“ воспоминаниями о дне 15 июля 1927 года, когда сгорел Дворец юстиции. Отношения массы с властью — одна из важнейших проблем романа. При этом взгляд Канетти обращен на подножье пирамиды, то есть на „мелких людишек“, в совокупности своей служащих питательной средой для фашистских движений, для всех тоталитаристских идеологий.
Как масса „мелкие людишки“ представлены в романе только один раз, но с большой художественной убедительностью, которая многого стоит. Речь идет о памятной сцене у входа в ломбард. Скандал между Терезой и Кином, с умеренным участием Пфаффа и Фишерле, обрастает (по причине странного вида и поведения действующих лиц) мифотворческими толкованиями, одно другого кошмарнее. Толпе зевак начинают мерещиться трупы, кровавые убийства, кража бесценного жемчужного колье. Толпа эта вдруг начинает ощущать себя единым организмом, обладающим тысячью рук и глоток. Сплачивает ее ненависть, иррационально вспыхнувшая против Фишерле, в данной ситуации вполне невинного. Но ведь Фишерле — карлик, калека; он уродлив, уродство выделяет его из толпы и противопоставляет толпе.