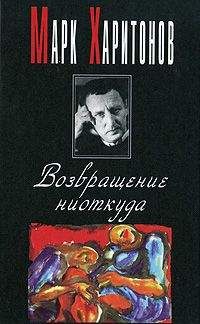Элиас Канетти - Ослепление
Некатегоричность, недогматичность, диалектичность Канетти сформировали идею труда его жизни «Масса и власть». Поставив последнюю точку, он занес в записную книжку: «Теперь я говорю себе, что мне удалось схватить столетие за горло». Быть может, это высказывание слишком красиво, наверное, ему недостает скромности, но в принципе оно верно.
«Масса и власть» и сопутствующие ей статьи — это, по жанру, нечто стоящее между наукой и искусством, в равной мере оглядывающееся на их не во всем совместимые законы. И дело не просто в стиле — как всегда у Канетти, насыщенном, сжатом, образном. Решая проблемы из области социологии, он попутно создает образ властителя и образ толпы; иными словами, порождает нечто художественное, но за счет средств и доводов науки. Художественный образ, однако, способен оказаться, так сказать, шире самого себя; он предназначен к этому собственной природой. Научная точность, научная логика, великолепные в своих пределах, образности, метафорике по большей части противопоказаны.
Что не всегда удавалось Канетти в трудах теоретических, удалось в удивительном, прославившем его романе «Ослепление». Роман вобрал в себя проблематику чуть ли не всех прочих книг писателя, при этом (что делает его особенно удивительным) еще до того, как они были написаны.
* * *В 1929 году у Канетти возник замысел цикла из восьми романов. В центре каждого должен был стоять герой, выделяющийся каким-нибудь маниакальным свойством. Оттого ему не полагалось имени — лишь кличка, отмечающая свойство. Подражая Бальзаку, Канетти замышлял свою «Человеческую комедию», но поскольку речь шла о личностях маниакальных, он назвал ее «Человеческой комедией заблуждений».
Некоторое время он работал над всеми задуманными романами сразу, ни одному из героев не отдавая предпочтения, однако к осени 1930 года определенно стал отличать того, который носил кличку Книжный Червь (Bьcherwurm). Вскоре у Книжного Червя появилось имя: Бранд.[3] Оно указывало (хотя судьба Бранда во многом еще не была определена), что ему надлежит погибнуть в огне во время пожара.
«Что именем своим и своим концом, — вспоминал много позже Канетти, — он обязан дню 15 июля, я тогда еще не сознавал». Канетти имеет в виду 15 июля 1927 года. В тот день в Вене происходили народные волнения, был подожжен и сгорел Дворец юстиции.
Канетти обязан 15 июля не только мотивом огня, пожара, проникшим в его роман. Писатель сам был в тот день на улице, среди возбужденной толпы, видел, как она формируется, испытал на себе силу массовой психологии. «Из событий, которые мне довелось познать на собственном опыте, — писал он, — эти более всего напоминали революцию. С тех пор я совершенно точно знаю (мне и читать об этом незачем), как все выглядело в день штурма Бастилии». Если идея его труда «Масса и власть» и явилась ему ранее, то сколько-нибудь четкие очертания она обрела лишь после 15 июля. Тогда же обрел очертания и роман.
Вместе с именем героя появилось и его название — «Бранд ловит огонь». Затем имя, да и все название, как слишком навязчиво предрекающие финал, перестали удовлетворять автора. Бранд превратился в Канта. Но и намек на немецкого философа показался неуместным. В конце концов Канетти остановился на имени Кин. А когда дело дошло до публикации, старое название исчезло. Новое — «Ослепление» («Die Blendung») — было более универсальным. Оно и прямо и косвенно выражало главные идеи романа, его ведущие метафорические значения. Характерно, что английское издание было озаглавлено «Аутодафе», американское и французское — «Вавилонская башня». Первое — вернулось к мотиву огня, прочие выделили присущую действующим лицам неспособность понимать друг друга («вавилонское смешение языков»).
Этот, последний, смысл близок к тому, который автор вкладывает в понятие ослепления.
Сюжет романа Канетти, как и всякого хорошего романа (по крайней мере, таково было мнение Гете), может быть передан в немногих словах. Это легко сделать хотя бы потому, что в книге действуют всего пять героев и немногим более двух десятков персонажей второго и третьего плана, часть из которых попадает в поле читательского зрения совсем ненадолго. «Ослепление» как бы прикидывается книгой камерной, далекой от актуальных общественных событий, сосредоточенной на индивидуальной человеческой психологии, на ее капризах и абсурдах. Этим не в последнюю очередь объясняется, почему на первых порах она почти не привлекла внимания и не имела успеха: то было время «Семьи Оппенгейм» (1933) Л. Фейхтвангера, где шел прямой расчет с действиями фашизма, а время «Доктора Фаустуса» (1947) Т. Манна, где фашизм осмысляется в качестве ложной идеологии, еще не наступило.
Пять героев «Ослепления» — это уже упомянутый Петер Кин, крупный синолог;[4] его служанка, а затем жена Тереза; отставной полицейский Бенедикт Пфафф, ныне привратник дома, где проживает Кин; горбатый карлик Фишерле, сутенер и мошенник; наконец, брат Кина — Георг, знаменитый парижский психиатр.
После нелепой женитьбы на Терезе жизнь старшего из братьев — Петера Кина, книжного червя, отшельника — превращается в ад. Тереза, движимая жадностью и похотью, вымогает у него завещание, отвоевывает одну за другой комнаты квартиры и в конце концов выбрасывает мужа на улицу. Поскольку чековая книжка случайно остается в кармане героя, в средствах он не стеснен, но с трудом осваивается с новыми для себя условиями венского городского дна. К тому же он попадает в цепкие лапки Фишерле, озабоченного, как избавить свою жертву от принадлежащих ей шиллингов. Однако планы карлика перечеркивает досадная случайность.
У входа в городской ломбард, где Фишерле разворачивает свои операции против Кина, тот сталкивается с Терезой и Пфаффом. Заделавшись ее любовником, Пфафф уговорил Терезу через ломбард обратить в деньги библиотеку Кина. Скандал завершается в полицейском участке, после чего блудный муж возвращается домой (правда, не к страстно ненавидимой супруге, а в швейцарскую Пфаффа).
Между тем, благополучно избежав ареста, Фишерле вызывает телеграммой Георга Кина: потерпев фиаско с синологом, он надеется поживиться за счет его брата, парижского психиатра. В судьбе Фишерле, которого вскоре убивает клиент проститутки-жены, приезд Георга Кина уже ничего изменить не может, а для Петера Кина многое меняется: младший брат выгоняет Терезу и Пфаффа и возвращает старшего его книгам. Но, оставшись один, главный герой поджигает свою библиотеку и гибнет в пламени.
Рассказать все это — еще не значит дать хоть какое-нибудь представление о романе. Фабула у Канетти есть нечто вспомогательное. Описывая единичный, анекдотический случай, он стремится «схватить столетие за горло», иными словами — докопаться до сути окружающей действительности, проникнуть к управляющим ею законам. Ему удалось достичь высокой степени обобщения, но не за счет типизации обстоятельств, а за счет типизации характеров. При этом нарочитое сгущение, концентрация признаков, гротескная гиперболизация превратили эти характеры из личностей в некие условные «фигуры».
Прочитав роман еще в рукописи, Брох сказал: «Но это уже не настоящие люди. Они становятся чем-то абстрактным. Настоящие люди состоят из многого… Можно ли до такой степени искажать людей, чтобы их немыслимо было узнать?»
«Это — фигуры, — ответил ему Канетти. — Люди и фигуры — не одно и то же. Роман как литературный жанр начинается с фигур. Первым романом был „Дон Кихот“. Что вы думаете о его главном герое? Не представляется ли он вам достоверным именно потому, что он — крайность?»
У Канетти вовсе не было на уме соревноваться с Сервантесом. Он лишь указывал на традиции, которыми питалась его поэтика. В разговоре с Брохом он назвал также Гоголя. Тем и ограничился. Однако круг его ученичества, его приверженностей, его художественных симпатий весьма показателен и заслуживает того, чтобы поближе с ним познакомиться.
Из писателей прошлого, кроме уже названных, Канетти высоко ценит Кеведо, Свифта, Бюхнера, из художников — Брейгеля и Гойю. Среди современников он боготворил австрийского сатирика Карла Крауса (1874–1936) (правда, пока ему не стала претить авторитарность и политический консерватизм последнего); он преклоняется перед Кафкой, глубоко уважает Музиля, искренне расположен к Бабелю. Из братьев Манн Генрих нравится ему больше Томаса. Конечно, все это таланты очень разные. Но кое-что общее между ними есть: склонность если не к сатирическому, то к гротескному преображению эмпирической реальности.
«Однажды мне пришло в голову, — пишет Канетти, — что мир не следует более изображать так, как это делалось в старых романах, потому что мир распался…» Сказанное, однако, вовсе не означало для писателя, будто распасться надлежало и самому роману. Заимствуя у Гоголя «свободу фантазии», в учителя по классу композиции Канетти взял себе совсем другого мастера — Стендаля. Работая над «Ослеплением», Канетти не случайно перечитывал «Красное и черное», приобщаясь к сухости его слога, к четкости и логичности его построения. Это не было попыткой наложить скрепы на внутренний хаос: безудержность и дисциплина для Канетти — две стороны одной медали.