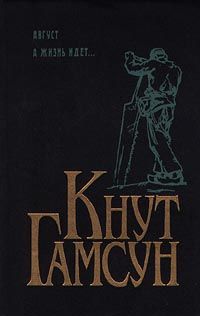Кнут Гамсун - А жизнь идет...
Без четверти восемь.
Зал кино с новым цементным полом был почти полон; всем, верно, было приятно видеть столько участия к бедным сиротам Солмунда. Креститель из Южной деревни и Нильсен из Северной деревни уехали; религиозное движение спало, и деревенский народ явился на это «веселье за плату» в неожиданно большом количестве. Даже Осе пришла, даже Тобиас из Южной деревни с женой и дочерью Корнелией, — три кроны было получено с одного Тобиаса!
И кого только не было! Маленькая умная дочка Давидсена и не подумала распространять свои афиши по городу, где и без того рыскал лаборант. Нет, она поджидала деревенских, возвращавшихся из церкви, и действовала среди них. Это было очень хитро придумано.
Конечно, здесь были все семьи чиновников, дамы читали программы и спрашивали друг друга, когда что-нибудь было неясно:
— Цимбалы? — говорили они. — «Илиада»?
— Вероятно, это музыкальное выражение, — отвечали им.
Тут сидела жена священника с голубиным лицом, маленькая и тихая, и изредка краснела, и Старая Мать в своём новом платье, и все остальные члены семьи консула. За каждый билет было заплачено по кроне. Но пришёл нотариус Петерсен с женой и потребовал, чтобы его, как председателя правления кино, пропустили даром. Возник спор. Лаборант выскочил из кассы, встал на цыпочки и сердился, и когда Петерсен с женой всё же, недолго думая, вошли в зал, лаборант крикнул им вслед в открытую дверь:
— Вот единственные, которые ничего не заплатили!
С лаборантом шутки были плохи. Даже когда вдова Солмунда пришла со своими детьми и захотела без билетов пройти в зал, её остановили.
— Ради контроля, — пояснил лаборант.
Исполнители находились в комнатке за сценой, они сидели там все вместе. Каждому было поднесено по стакану из бутылки, которую Вендт принёс с собой и поставил в уголок. Он говорил всё больше по-французски.
Почтмейстерша стала читать программу и вдруг вздрогнула. Она спросила Хольма:
— Боже, что это за струнный квинтет?
— Струнный квинтет и цимбалы, — отвечал Хольм.
Фру рассмеялась и спросила:
— Но кто же, кто же будет?..
— Я, — сказал Хольм.
— Ох, я упаду в обморок! Ха-ха-ха! Он с ума сошёл, Вендт!
В зале тем временем проскучали четверть часа; зрители стали поглядывать на часы и по рядам говорили друг другу, что пора бы начинать. Доктор Лунд держал под шалью в своей руке руку жены.
Но вот появился гармонист, деревенский малый лет двадцати, спокойный и обыкновенный, привыкший играть на вечеринках с танцами. Посреди эстрады стоял стол и два стула; он тотчас сообразил, что ему надо делать, сел и начал играть.
Песня, которую распевали в его родной деревне, вовсе уж не так плоха, красивая песня на низких нотах. Люди из его деревни внимательно следили за своим музыкантом. Когда он кончил, молодёжь попробовала аплодировать, но так как их не поддержали, то они сконфузились и затихли.
Парень посидел немного, поглядел на публику и заиграл опять, на этот раз нечто граммофонное, — Вебера, нечто очень красивое и услаждающее слух. Фру Лунд, маленькая Эстер из Полена, старалась скрыть, что она растрогана.
Это был номер первый.
Следующим выступил хозяин гостиницы Вендт со своей речью, но она не удалась. Ему бы следовало сесть к столу и рассказать что-нибудь, а он стоял. На нём был фрак, и он выглядел очень хорошо, но ему следовало бы быть поумнее. А разве Вендт знал толк в вещах вроде рабочего движения, сухого закона, театрального искусства или судостроения? Какой же Вендт политик? Конечно, он не говорил обо всех этих вещах в отдельности, но он затронул каждую из них и на каждой из них застрял. Совсем плохо он, пожалуй, не говорил; совсем плохим оратором Вендт и не мог быть и изредка он острил, и окружной судья и священник смеялись. Но каждый мог бы произнести приблизительно такую же речь, и у него у самого было достаточно художественного чутья, чтобы почувствовать это. Через четверть часа он прервал свою речь и ушёл. Когда кто-то захлопал, он обернулся и до кулис пятился задом. Бывают люди, которые, несмотря ни на что, возбуждают симпатию. Хозяин гостиницы Вендт удалился так мило!
Третьим номером были две граммофонных пластинки, так как фру почтмейстерша Гаген стала нервничать и попросила несколько отодвинуть её черёд. Странно, что именно она, единственная, для которой искусство было профессией, так волновалась и трусила. Так как и эта маленькая отсрочка не помогла ей, то участники не знали, как им быть дальше.
— Сделаем первый перерыв, — сказал Вендт.
Он и аптекарь возились в углу с какими-то бутылками.
— Я охотно спою теперь, — сказала Гина из Рутена.
— Да благословит тебя бог, Гина, спой, пожалуйста! — попросила почтмейстерша.
Но это обозначало, что и аптекарь должен выступить со своей гитарой, а к этому он был не слишком расположен: у него даже заболел палец.
— Посмотрите-ка — нарыв! Не можешь ли ты, Карел, пойти и поиграть для Гины?
— Ну что ж, — сказал Карел, — если вы находите, что я сумею.
В зале тем временем начали выражать нетерпение. Но вот вышла Гина со своим мужем, и всё затихло. Они оба сели на стулья возле стола.
Она славилась своим пением в церкви и на молитвенных собраниях. Она была несколько расфуфырена на этот раз: на ней был зелёный лиф, застёгивающийся крючками на груди, парадная юбка, в ней она когда-то носила сено, а теперь заняла и ещё раз. Костюм был недурён, он производил впечатление чего-то подлинного, она ничего из себя не строила, и как была, так и оставалась деревенской женщиной из Южной деревни.
Да, она была достаточно хороша, и ей Вендт поднёс тоже стаканчик, который пошёл ей на пользу.
Аптекарь Хольм побывал раза два в Рутене, он пробовал подучить её кое-чему, но, верно, она не очень-то много поняла из его указаний. Она соглашалась с тем, что он говорил, и при этом усердно счищала грязь со своего платья. Она отказалась выучить балладу или любовную песнь, потому, что она совсем недавно крестилась вторично и пока могла петь одни лишь псалмы. Петь она не умела, но голос у неё был прекрасный.
Карел начал наигрывать «древнехристианский псалом»; играть он тоже не умел, но он хорошо подбирал, и из жалкой гитары зазвучала музыка. Но тут вступила Гина, и гитара сошла на нет.
Один стих, второй, третий, а в псалме их было девять. Гина спела пять и стала комкать. Тогда священник в первом ряду встал, перегнулся вперёд и попросил её передохнуть:
— Побереги себя к следующему псалму. Ты поёшь, как ангел, Гина!
— Да, — раздалось тут и там по залу.
Гина улыбнулась в ответ и спела под конец ещё два стиха. Потом она и её муж вышли, как им было сказано заранее.
Первый перерыв.
Черёд почтмейстерши. Всё сошло, конечно, блестящим образом, и все зааплодировали. Фру вернулась в артистическую счастливая, как ребёнок.
— Я думала, у меня ничего не выйдет, — говорила она, и смеялась, и почти что плакала.
Вендт тем временем уже настолько сдружился с бутылками, что начал громко напевать.
— Тише! — сказал Хольм.
— Я упражняюсь, — ответил Вендт. — Разве ты не знаешь, что я буду петь по-французски?
— Я ведь тоже буду выступать, — сказал обиженным топом Хольм. — Ты забыл мой струнный квинтет и цимбалы.
Почтмейстерша, чтобы не рассмеяться, зажала себе рот рукой.
Они болтали друг с другом так долго, что в зале опять заволновались. Пришлось прибегнуть к «Илиаде», к «Илиаде» на гармонике.
— Теперь что играть? — спросил гармонист.
— Твой самый громкий марш, — сказал Хольм, — «Марш Бисмарка». Карел пойдёт с тобой и будет подпевать.
Карел извинился: как только что окрестившийся, он отказывался пока петь светские песни.
— Но ведь это же марш, а не танец, то есть иными словами — почти что псалом!
Его стали уговаривать, дали ему ещё стакан вина, и он вышел.
Успех был колоссальный. Молодёжь узнала свой марш, своего музыканта и своего певца, встала с мест и зашумела.
— Теперь я пойду! — сказал Вендт и подтянулся.
— Да и я, пожалуй, выступлю со своим номером, — сказал Хольм.
— Apres moi! — сказал Вендт. Он был в отличнейшем, настроении, просто неподражаем.
— О боже! — шептала почтмейстерша, когда он вышел, — он спугнёт всех слушателей.
Они услыхали, как он запел «Je suis a vous, madame». В самом деле, он запел. Во всяком случае Гордон Тидеман в зале понял текст, но мотива, пожалуй, никто не заловил. Голос же то и дело обрывался, порой он звучал, как хорошо-обмотанная басовая струна, но потом вдруг срывался и напоминал тогда дребезжание медной проволоки. Нужно же было суметь поднести что-то до того несуразное! Сам Вендт не заметил за собой ничего плохого, он пел как ни в чём не бывало, а когда кончил, ему захлопали. И он вполне искренно принял это за поощрение. Они хлопали, вероятно, потому, что хотели показать, что понимают по-французски, хотя французский язык и считался у них языком слуг и лакеев. Он поблагодарил и, очень гордый, вернулся к своим товарищам и с той минуты стал вообще держаться очень независимо.