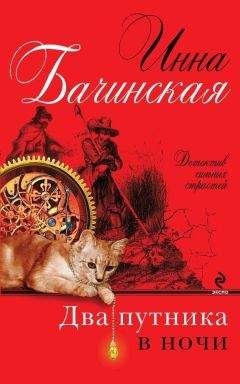Владислав Реймонт - Комедиантка
Нужда подкрадывалась незаметно и давила все сильней и сильней. Выражение постоянной заботы уже не сходило с Янкиного лица.
Ей уже не приносили завтраков, забывали чистить ботинки, подавать вечером лампу. Явных признаков недовольства и невнимания было так много, что Янка, садясь обедать, уже не могла скрыть стыда и страха. Она вздрагивала всякий раз, когда слышала голос мадам Анны, тревожно всматривалась в лица хозяев: казалось, глаза их выражают неприязнь, презрение, даже жалость; это была жалость людей имущих, и сносить их пренебрежительное отношение было Янке не под силу.
Янка стала как будто покорнее, но где-то внутри ее существа шла истощающая силы борьба: любовь к искусству боролась с сознанием надвигающейся нужды. Она начинала смотреть в будущее со страхом. К тому же город раздражал ее все больше. Давили стены домов, дурманил вечный хаос, угнетала суета городской жизни. Город внушал отвращение. Янка поняла, что эта жизнь еще более пуста, скучна и однообразна, чем в деревне. Здесь каждый был рабом своих потребностей, ради удовлетворения которых работал, воровал, обманывал, с каждым днем оказываясь все ближе к смерти.
Здесь Янке было труднее: она не могла уйти от людей, как делала в Буковце после каждой ссоры с отцом; здесь она потеряла возможность неистовствовать вместе с вихрями, чтобы, изнурив себя физически, наконец успокоиться.
Янка ходила по городу, но везде было слишком людно. Бывали минуты, когда она охотно поделилась бы с Глоговским всем, что ее удручало, но сделать это не решалась — удерживала гордость. Глоговский, вероятно, догадывался о ее положении. Янке не удавалось скрыть свою тревогу, но, хотя он и просил ее рассказывать ему обо всем, ничего не скрывая, Янка так и не решилась на это.
Из дома она старалась выходить как можно раньше, а возвращаясь, проходила в комнату так тихо, чтобы никто не слышал, чтобы никому не попадаться на глаза и не вызвать разговоров о своем долге.
Пугало не то, что завтра она может оказаться на улице, а то, что мадам Анна или Совинская могут ей просто сказать: «Уплатите долг», а заплатить будет нечем.
Но роковая минута все же настала. Сидя в тот день за обедом, она поняла, что сегодня это неизбежно случится, хотя Стемпняк, мадам Анна и даже Совинская были в отличном настроении. Янка поймала один взгляд мадам Анны, когда та разливала суп — в этом взгляде было все.
Ела Янка медленно, тревога не оставляла ее ни на секунду, она с трудом глотала пищу и сидела за столом как можно дольше, лишь бы оттянуть неприятный разговор. Наконец пришлось вернуться в комнату.
Сразу же вслед пришла мадам Анна и с беззаботным видом стала рассказывать о какой-то забавной клиентке, потом, быстро переменив тему, как бы невзначай заметила:
— Да, кстати! Вы не можете отдать мне за эти полмесяца? Я сегодня должна платить за квартиру.
Янка побледнела и еле выдавила из себя:
— У меня сегодня нет…
Она хотела сказать еще что-то, но не смогла произнести ни слова.
— Что значит — нет? Я прошу свое! Надеюсь, вы не думаете, что я обязана кого-то кормить даром и держать вот так, для украшения дома. Ничего себе украшеньице! Является домой по утрам!
— Но я же отдам! — воскликнула Янка. Слова мадам Анны как бы пробудили ее.
— Мне нужны деньги сию же минуту.
— Они у вас будут… через час! — ответила Янка, приняв какое-то неожиданное решение, и посмотрела на мадам Анну с таким презрением, что та не рискнула что-либо ответить и вышла, хлопнув дверью.
Янка слышала от хористок о ломбарде и тут же пошла заложить свою единственную драгоценность — золотой браслет. Вернувшись, она тотчас заплатила мадам Анне. Та очень удивилась, но добрее все же не стала.
— Столоваться буду в городе! Не хочу больше стеснять вас, — добавила Янка.
— Как угодно. Если у нас плохо, скатертью дорога! — прошипела мадам Анна, глубоко уязвленная ее словами.
После этого Янка сразу оказалась в состоянии войны с хозяевами.
— Все продам… до последней тряпки! — упрямо твердила она.
Она подсчитала, что питаться в городе стоит в два раза дешевле, чем у Совинских.
Вольская показала ей дешевую столовую, и Янка ходила туда обедать; если же денег не хватало и на это, довольствовалась сардельками с булкой на целый день.
Но в один прекрасный день спектакль отменили, потому что в кассе набралось всего рублей двадцать. На следующий день тоже не играли — из-за дождя. Как и все, Янка не получила от Цабинского ни гроша и два дня совсем ничего не ела.
Этот первый в ее жизни голод подействовал на Янку угнетающе. Она словно ощущала в себе необъяснимую и нескончаемую боль.
— Голод! Голод! — в ужасе шептала Янка.
До сих пор девушка знала о нем только понаслышке. Странным казалось это чувство; странным было то, что хочется есть и не на что купить даже булки!
— Неужели мне в самом деле нечего есть? — спрашивала себя Янка.
Из прихожей доносился запах жареного мяса. Она плотнее прикрыла двери — от запаха ей становилось дурно.
С каким-то лихорадочным волнением припомнила Янка, что большинство великих артистов в разные времена тоже терпели нужду, и это на минуту ее утешило; она почувствовала себя окрещенной первыми муками во имя искусства.
Янка рассматривала в зеркале свое желтоватое, похудевшее лицо с меланхолическим выражением, и, грустно улыбаясь, она пробовала читать, забыться, отрешиться от самой себя. Все было бесполезно, она испытывала только одно — голод.
Янка посмотрела в окно на длинный двор, застроенный со всех сторон высокими флигелями. В квартирах садились обедать: какие-то рабочие, расположившись внизу, под стеной, тоже ели свой завтрак из красных глиняных горшочков. Янка отшатнулась, почувствовав, как голод, словно стальной лапой с острыми когтями, больно схватил ее за горло.
— Все едят! — прошептала она удивленно, будто впервые обратила внимание на такой факт. Затем она легла и проспала до вечера, не пошла ни на репетицию, ни к Цабинской; Янка чувствовала, что слабеет, головокружение не оставляло ни на минуту, а под ложечкой сосало так, что хотелось плакать.
Вечером в уборной на нее вдруг напала безудержная веселость: без конца смеясь, Янка острила, потешалась над хористками, поссорилась из-за какого-то пустяка с Мими, а со сцены кокетничала с первыми рядами.
Мецената, который в антракте появился за кулисами с коробкой конфет, она приветствовала так радостно и так крепко пожала ему руку, что старик растерялся. Потом, ожидая, пока помощник режиссера крикнет: «На выход!», она забилась в какой-то темный угол и там, среди сумрака и тишины, разрыдалась.
После спектакля Янка получила аванс — целых два рубля. Цабинский выдал ей их сам, потихоньку от других — он хотел, чтобы она продолжала давать его дочери уроки музыки.
Янка пошла в буфет поужинать, опьянела от одной рюмки вина и даже сама попросила Владека проводить ее до дому.
С этого вечера Владек ходил за ней как тень и начал открыто проявлять свою нежность, не обращая внимания на расспросы и слежку матери, которая не спускала глаз с обоих.
Однажды к Янке домой влетел Глоговский и уже в дверях закричал:
— Ну вот, я еду к своим дикарям!
Он бросил шляпу на сундук, уселся на кровать и принялся скручивать папироску. Янка спокойно смотрела на него и думала о том, как ей безразлично теперь все то, что раньше вызывало интерес.
— Вы не плачете, нет? Ха, еще бы… Разве что псы по мне завоют, чтоб мне сдохнуть! А вы не знаете, что с Котлицким? В театре не бывает, и нигде не могу найти его. Должно быть, уехал…
— Я не видела его с того самого ужина… — медленно ответила Янка.
— Тут что-то есть! Ссора, любовь, и… считай до двадцати! А впрочем, какое мне дело до этой зеленой обезьяны, правда?
— Конечно, правда! — прошептала она и отвернулась к окну.
— О, что это! — воскликнул Глоговский, заглядывая ей в глаза. — Как вы изменились! Глаза впали, кожа желтая, взгляд стеклянный, черты заострились. Что это значит? — спросил он тише.
И тут же, ударив себя по лбу рукой, как сумасшедший забегал по комнате.
— Какой же я идиот, готтентот, чудовище! Разгуливаю себе по Варшаве, а здесь, в доме актрисы, свила себе гнездо беда! Панна Янина! — воскликнул он, беря Янку за руку и очень серьезно посмотрев ей в глаза. — Панна Янина! Я хочу знать все, как на исповеди. Чтоб мне сдохнуть… Вы должны мне сказать!
Янка молчала, но его благородное лицо, голос, полный искреннего участия, — все это так растрогало Янку, что ее глаза наполнились слезами. От волнения она не могла произнести ни слова.
— Ну, ну, не надо плакать, все равно уеду, — попытался пошутить Глоговский — он тоже старался скрыть волнение. — Послушайте же меня… только без всякого протеста и громкой оппозиции… ненавижу парламентаризм! Вы испытываете нужду, театральную к тому же… ну, это мне известно. Так не краснейте же, черт возьми. Честная беда — это не стыдно! Это лишь обыкновенная оспа, которой должно переболеть все самое хорошее на свете! Ого! Будто я первый год играю в жмурки с невзгодами! Ну, а теперь довольно. Сделаем так…