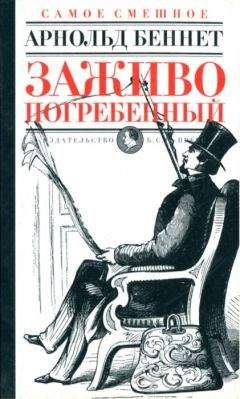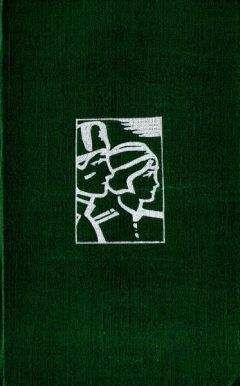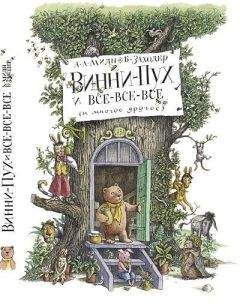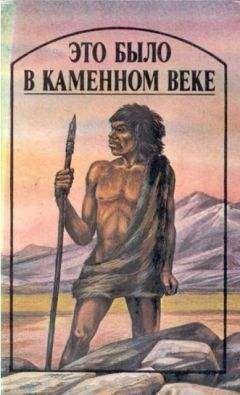Арнольд Беннетт - Повесть о старых женщинах
Теперь же она спокойно и благоразумно кормила его грудью в присутствии мисс Инсал. Она уже привыкла к его важной роли в ее жизни, к хрупкости его организма, к необходимости дважды вставать к нему ночью, к своей тучности. К ней вернулись силы. Конвульсивные подергивания, которые в течение полугода нарушали ее покой, прекратились. Положение матери стало нормой для ее бытия, а ребенок был таким нормальным явлением, что она не могла представить себе свой дом без него.
И все это за десять месяцев!
Уложив ребенка в кроватку на ночь, она спустилась вниз и обнаружила, что мисс Инсал и Сэмюел все еще работают, да еще напряженнее, чем обычно, но на этот раз они занимались подсчетом наличности. Она села, оставив дверь на лестницу открытой. В руке она держала чепчик, намереваясь его вышить. Пока мисс Инсал и Сэмюел быстрым шепотом считали фунты, шиллинги и пенсы, она, склонившись над тонким, нежным, трудоемким рукоделием, с неторопливой аккуратностью продергивала иголку. Иногда она поднимала голову и прислушивалась.
— Простите, — сказала мисс Инсал, — мне кажется, ребенок плачет.
— …и два — это восемь, и три — это одиннадцать. Ему полезно поплакать, — быстро проговорил Сэмюел, не отрывая взгляда от работы.
Родители мальчика не считали возможным обсуждать семейные дела даже с мисс Инсал, но Констанции нужно было утвердить себя в роли матери.
— Я все обеспечила, чтобы ему было удобно. Он плачет только потому, что воображает себя заброшенным. А мы полагаем, что ему еще рано разбираться в таких делах.
— Вы совершенно правы! — воскликнула мисс Инсал. — Два, три переносим.
Далекий слабый, печальный, жалобный плач упорно продолжался. Он продолжался уже целых полчаса. Констанция не могла более заниматься своей работой. Плач подавлял ее волю, разрушал ее стойкое благоразумие.
Не говоря ни слова, она медленно поднялась по лестнице, осторожно положив чепчик на кресло.
Мистер Пови, после минутного колебания, бросился следом за ней, испугав Фэн. Он затворил дверь перед мисс Инсал, но Фэн успела проскочить. Он увидел, что Констанция держится рукой за дверь спальной.
— Милочка, — укоризненно произнес он, стараясь сдержаться, — что же ты все-таки намерена делать?
— Я просто слушаю, — ответила Констанция.
— Прошу тебя, образумься и спустись вниз.
Он говорил тихо, едва скрывая нервное возбуждение, и на цыпочках двинулся к ней по коридору мимо газового рожка. Фэн последовала за ним, ожидающе помахивая хвостом.
— А вдруг он нездоров? — высказала Констанция предположение.
— Ха! — презрительно воскликнул мистер Пови. — Помнишь, что случилось сегодня ночью и что ты говорила?
Они спорили в духоте коридора вполголоса, чтобы создать ложное впечатление добродушного разговора. Разочарованная Фэн перестала вилять хвостом и потопала прочь. Плач ребенка за дверью превратился в невообразимо отчаянный вопль и так сжал сердце Констанции, что она прошла бы сквозь огонь, чтобы добраться до своего дитяти. Ее удерживала железная воля мистера Пови. Но она, разгневанная, оскорбленная, возмущенная, взбунтовалась. Здравый смысл — идеальное средство для сохранения взаимной снисходительности — отлетел от этой взволнованной пары. Все непременно закончилось бы ссорой, ибо Сэмюел в неистовой ярости свирепо смотрел на жену с противоположного края бездонной пропасти, если бы, к их великому удивлению, наверх не ворвалась мисс Инсал.
Мистер Пови повернулся к ней, смирив свои чувства.
— Телеграмма! — объявила мисс Инсал. — Почтмейстер лично принес ее…
— Как? Мистер Дерри? — спросил Сэмюел, открывая телеграмму с величественным видом.
— Да. Он сказал, что доставить ее обычным путем было уже слишком поздно, но, поскольку, она, видимо, очень серьезная…
Сэмюел быстро прочитал телеграмму, с мрачным выражением лица кивнул головой и отдал ее жене. У нее глаза наполнились слезами.
— Пойду к кузену Дэниелу, он сразу отвезет меня туда, — сказал Сэмюел, овладев собой и ощутив себя хозяином положения.
— Не лучше ли нанять экипаж? — спросила Констанция. Она относилась к Дэниелу с предубеждением.
Мистер Пови отрицательно покачал головой.
— Он уже предлагал мне, — ответил он, — я не могу ему отказать.
— Надень теплое пальто, дорогой, — сказала Констанция, как во сне спускаясь с ним вниз.
— Надеюсь, это не о… — не закончила своего вопроса мисс Инсал.
— Именно об этом, мисс Инсал, — многозначительно ответил Сэмюел.
Через полминуты его уже не было.
Констанция взбежала вверх по лестнице. Но плач прекратился. Она бесшумно и медленно повернула дверную ручку и на цыпочках вошла в комнату. В этой спальной с плотно завешенными окнами свет ночника отбрасывал широкие тени от тяжелой мебели красного дерева и малиновых репсовых штор с бахромой. А между большой кроватью и оттоманкой (на которой лежала только что купленная семейная Библия Сэмюела) под покровом теней смутно виднелась детская кроватка. Она взяла в руку ночник и неслышно обогнула кровать. Да, он решил уснуть. Такое событие, как смерть вдалеке, сломило его отчаянное упрямство. Судьба взяла верх над ним. Как прелестна эта мягкая, нежная щечка со следами слез! Как хрупки эти маленькие, крохотные ручки! В душе Констанции таинственно сочетались горе и радость.
II
Гостиная была полна приглашенных, одетых соответственно этикету. Эта старая гостиная была тесно и по-новому обставлена прекраснейшей викторианской мебелью из дома покойной тети Гарриет в Эксе: две этажерки с дверцами, большой книжный шкаф, великолепный сверкающий неподъемный стол, истерзанные резьбой стулья. Прежнюю мебель перенесли в нижнюю гостиную, которая приобрела величественный вид. Весь дом светился богатством, он был до предела насыщен спокойным, сдержанным изобилием; миссис Бейнс назвала бы даже самые незначительные предметы, стоявшие в самых незаметных углах, «добротными». Констанция и Сэмюел располагали половиной денег тети Гарриет и половиной денег миссис Бейнс; вторая половина предназначалась для Софьи, возвращение которой оставалось маловероятным, опекуном был определен мистер Кричлоу. Дело Пови продолжало процветать. Окружающие знали, что мистер Пови покупает дома. Однако у Сэмюела и Констанции друзей не прибавилось; они, как говорят в Пяти Городах, «не расширяли связей в обществе», зато весьма щедро расширяли свое участие в благотворительных подписных листах. Они держались особняком. Гости пришли не к ним, а к Сирилу.
Его нарекли Сэмюелом потому, что Констанция хотела, чтобы он носил имя отца, а Сирилом потому, что его отец в тайниках души презирал имя Сэмюел; так что все называли его Сирил, а Эми, признанная преемница Мэгги, именовала его «мастером Сирилом». Во все часы бодрствования мысли его матери были сосредоточены только на нем одном. Его отец в то время, которое он не посвящал планам обогащения Сирила, зарабатывал деньги с единственной целью — обогатить Сирила. Сирил был центром, притягивающим к себе весь дом, любое стремление было направлено на Сирила. Лавка теперь существовала только для него. Дома, которые Сэмюел покупал по частным договорам или, смущаясь, на аукционах, так или иначе были связаны с Сирилом. Сэмюел и Констанция потеряли способность правильно оценивать себя, теперь они видели в себе только родителей Сирила.
Этого они почти не осознавали. Упрекни их кто-нибудь в мономании, у них на лицах появилась бы улыбка людей, уверенных в своем здравомыслии и психическом равновесии. Но, несмотря на это, они были истинными маньяками. Инстинктивно они, насколько могли, скрывали этот факт. Они не признавались в этом даже самим себе. Сэмюел действительно нередко говорил: «Ребенок — это еще не все. Мальчишка должен знать свое место». Констанция всегда внушала сыну уважение к отцу, как к главнейшему лицу в доме. Сэмюел всегда внушал ему уважение к матери, как к главнейшему лицу в доме. Делалось все возможное, дабы убедить его, что он нуль, ничто и обязан радоваться, что живет на свете. Но он-то знал, каково его значение. Он знал, что ему принадлежит весь город. Он знал, что родители обманывают себя. Даже когда его наказывали, он знал, что это происходит потому, что он так значителен. Он никогда не делился с родителями даже частью этого знания, первобытная мудрость подсказывала ему, что свое понимание надо затаить глубоко в душе.
Ему было четыре с половиной года. В этом смуглом, как отец, красивом, как тетка, высоком для своего возраста мальчике не было ни одной черты, напоминающей мать, лишь иногда «проступало что-то общее». От причудливых нечленораздельных звуков, а потом — нескольких односложных слов, выражающих конкретные предметы и определенные желания, он перешел к удивительному, тонкому владению самым трудным из германских языков и мог сказать решительно все. Он умел быстро ходить и бегать, обладал многими точными представлениями о Боге и не сомневался в особом расположении к нему младшего божества по имени Иисус.