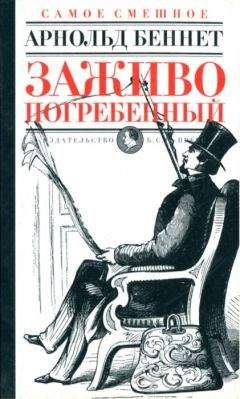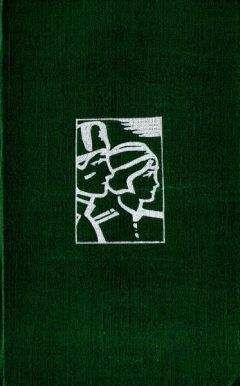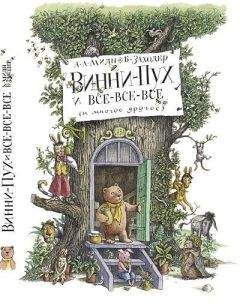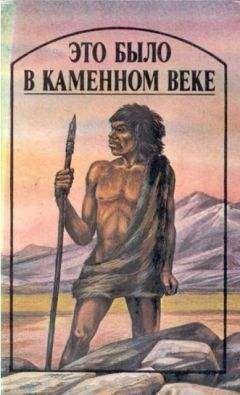Арнольд Беннетт - Повесть о старых женщинах
Он чуть было не ответил в своей исполненной величия небрежной манере: «По-моему, хватит и письма!» — но спохватился и спросил с заботливой почтительностью:
— Ты полагаешь, что лучше поехать?
Все изменилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы должным образом самому подготовиться к неизбежному и помочь в этом Констанции.
В воскресенье погода испортилась, и он поехал в Экс один. Туда его отвез в бричке кузен, а обратно, заявил Сэмюел, он пойдет пешком — ему полезен моцион. По дороге Дэниел, которому он не доверил своей тайны, как обычно болтал, а Сэмюел делал вид, что внимательно слушает его, но в душе отнесся к нему с некоторым презрением, как к человеку, занятому пустяками. Его будущее реальнее, чем будущее Дэниела.
Домой он, как и решил, отправился пешком по холмистой вересковой пустоши, дремлющей в сердце Англии. Он прошел полпути, когда стало темно, и он изрядно устал. Однако Земля, кружась в пустынном пространстве, вытолкнула для него Луну, и он быстро зашагал вперед. Блуждающий по свету ветер из Аравии остудил ему лицо. И наконец, с уступа холма Тофт-энд он увидел внизу, в обширном амфитеатре, мерцающие огни Пяти Городов, расположившихся на своих невысоких холмиках. И один из этих огоньков излучает лампа Констанции — один где-то там вдалеке. Значит, он жив. Он ступил под сень природы, тайны которой пробудили в нем душевный подъем. Куда уж всяким драндулетам и кузенам до этого величия!
— Черт меня побери! Черт меня побери! — повторял он, никогда раньше не бранившийся.
Глава III. Сирил
I
Констанция стояла в нижней гостиной у большого, с частым переплетом окна. Она очень располнела. Хотя всегда она выглядела пышной, фигура у нее была складная, с узкой, подчеркнутой талией. Теперь контуры сгладились, талия исчезла, кринолины, искусно ее подчеркивавшие, вышли из моды. Можно было бы понять человека, который, не поддавшись обаянию ее лица, назвал бы ее толстой и неуклюжей. Лицо ее, серьезное, доброе и полное упования, с ослепительными, свежими щечками и округлой мягкостью линий, возмещало недостатки фигуры. Ей было почти двадцать девять лет.
Стоял конец октября. На Веджвуд-стрит, что рядом с Боултен-Терес, снесли все маленькие коричневые домишки, чтобы освободить место для строительства роскошного крытого рынка, фундамент которого закладывался как раз в это время. Дома уже не заслоняли обширного участка неба на северо-востоке. Огромная темная туча с рваными краями поднялась из глубин и заслонила нежную синеву опускающихся сумерек, а на западе, за спиной Констанции, безмятежно и величаво печальное солнце садилось на затихший, как обычно по четвергам, город. Это был один из тех дней, которые впитывают в себя всю грусть кружащейся Земли и преобразуют ее в красоту.
Сэмюел Пови повернул с Веджвуд-стрит за угол, пересек по косой Кинг-стрит и подошел к парадной двери, которую открыла Констанция. Он выглядел усталым и встревоженным.
— Ну, что? — спросила Констанция, когда он вошел.
— Ей не лучше. Не скрою — ей хуже. Мне бы следовало остаться, но я понимал, что ты будешь волноваться. Поэтому я поспешил на трехчасовой поезд.
— А как справляется миссис Джилкрайст с обязанностями сиделки?
— Очень хорошо, — уверенно сказал Сэмюел. — Очень хорошо!
— Какое счастье! Тебе, вероятно, не удалось поговорить с доктором?
— Удалось.
— Что он сказал?
Сэмюел отмахнулся.
— Ничего определенного. Ты же знаешь, на этой стадии, когда водянка…
Констанция вернулась к окну, ее надежды явно не оправдались.
— Что-то эта туча мне не нравится, — тихо сказала она.
— Как! Они все еще на улице? — спросил Сэмюел, снимая пальто.
— Вот они! — воскликнула Констанция. Лицо ее внезапно преобразилось, она подскочила к двери, отворила ее и спустилась по лестнице.
Запыхавшаяся девушка быстро катила в горку детскую коляску.
— Эми, — с мягкой укоризной произнесла Констанция, — я же велела вам не забираться далеко.
— Я, как увидела эту тучу, помчалась изо всех сил, — едва переводя дух, ответила девушка, как бы благодаря судьбу за избавление от беды.
Констанция нырнула в глубь коляски, извлекла из ее нутра свое сокровище и с немой страстью осмотрела его, а потом с ним на руках стремительно бросилась в дом, хотя еще не упала ни одна капля дождя.
— Ненаглядный мой! — воскликнула Эми в экстазе, следя за ним юными, чистыми глазами, пока он не исчез из ее поля зрения. Затем она вывезла коляску, которая теперь потеряла для них всякий интерес. Ее следовало прокатить мимо фасада запертой лавки ко входу со стороны Брогем-стрит.
Констанция села на софу, набитую конским волосом, и, не сняв со своего сокровища капора, принялась обнимать и целовать его.
— А вот и папа! — сообщила она ему, как бы делясь с ним необычайными и радостными новостями. — Папа повесил пальто в передней и пришел к нам! Папа растирает руки, чтобы согреть их! — А затем, мгновенно изменив голос и выражение лица: — Посмотри же на него, Сэм!
Поглощенный своими мыслями, Сэм шагнул вперед.
— Ах ты маленький негодник! — обратился он к ребенку, поднеся палец к его носику. Малыш, сохранявший до сих пор полное равнодушие к происходящему, поднял ручки и ножки, пустил пузыри из крохотного ротика и уставился на палец с невообразимо восхитительной и лукавой улыбкой, как бы говоря: «Мне знаком этот торчащий предмет, только я вижу, какой он смешной, в нем моя тайная радость, которую вы никогда не поймете».
— Чай готов? — спросил Сэмюел, вновь обретя серьезность и свой обычный вид.
— Дай девочке раздеться, — сказала Констанция. — Нужно отодвинуть стол от камина, тогда малыш сможет лежать на каминном коврике, покрытом его пледом, пока мы пьем чай, — и, повернувшись к ребенку, восторженно добавила: — и играть своими игрушками, всеми чудными, чудными игрушками!
— Ты помнишь, что мисс Инсал остается к чаю?
Констанция, склонившись к ребенку, лежавшему, словно белая отделка на ее уютном коричневом платье, молча кивнула головой.
Сэмюел, шагая взад и вперед по комнате, обдумывал подробности своей поспешной поездки в Экс. Старая миссис Бейнс, повидав внука, готовилась покинуть земную обитель. Никогда уже она не воскликнет резко и с ласковой строгостью: «Вздор!» У них возникло очень сложное и мучительное положение, ибо Констанция не могла оставить ребенка дома и не рискнула бы до последнего момента везти его в Экс. Как раз сейчас она отнимала его от груди. Во всяком случае, у нее не было возможности ухаживать за больной матерью. Необходимо было найти сиделку. Мистер Пови обрел таковую в лице миссис Джилкрайст из графства Чешир, второй жены фермера из Мальпаса, первая жена которого была сестрой покойного Джона Бейнса. Своей репутацией миссис Джилкрайст была полностью обязана Сэмюелу Пови. Миссис Бейнс была в сильном волнении из-за Софьи, которая давно не давала о себе знать. Мистер Пови поехал в Манчестер и, поговорив с родственниками Скейлза, твердо убедился, что об этой супружеской паре ничего не известно. В Манчестер он ездил не только по этому поводу. Примерно раз в три недели ему нужно было посещать манчестерские склады, но поиски родственников Скейлза принесли ему столько беспокойства и отняли столько времени, что как-то раз ему самому показалось, что он съездил в Манчестер только с этой целью. Хотя в лавке у него действительно было очень много дел, он, когда только мог, даже пренебрегая своими обязанностями, наезжал в Экс. Он с радостью делал все, что было в его силах; даже если бы он делал это не по доброте душевной, его чувствительная, деспотичная совесть вынудила бы его поступать именно так. Как бы то ни было, но он сознавал, что приносит пользу, а волнения, переутомление и бессонница лишь усиливали ощущение своей полезности.
— Так что в случае резкого ухудшения они отправят депешу, — заключил он свои размышления, обращаясь к Констанции.
Она подняла голову. Слова, подчеркивающие истинное положение вещей, пробудили ее от грез, и она на мгновение увидела мать в предсмертных муках.
— Но ты ведь не имеешь в виду, — начала было она, пытаясь рассеять страшное видение, как не подтвержденное реальностью.
— Дорогая моя, — произнес Сэмюел, чувствуя, как шумит у него в голове, жжет глаза, как напряжены все нервы, — я просто хочу сказать, что в случае резкого ухудшения они пришлют депешу.
Во время чая Сэмюел сидел напротив жены, мисс Инсал — почти у стены (из-за того, что стол передвинули), а ребенок перекатывался по каминному коврику, покрытому большим мягким шерстяным пледом, некогда принадлежавшим его прабабушке. У него не было ни забот, ни обязанностей. Плед был такой огромный, что он не мог ясно различить предметы за его границами. На пледе лежали гуттаперчевый мяч, гуттаперчевая кукла, погремушка и Фэн. Он смутно узнавал эти четыре предмета и присущие им свойства. Его старым другом был и огонь. Он иногда пытался дотронуться до него, но между ними всегда оказывалась высокая блестящая преграда. За все десять месяцев не прошло ни одного дня, когда он не производил бы опытов над этой меняющейся вселенной, внутри которой только он один оставался неизменным и устойчивым. Опыты проводились главным образом ради забавы, но к проблемам еды он относился серьезно. Последнее время отношение вселенной к его питанию стало несколько озадачивать, вернее, даже беспокоить его. Однако он обладал забывчивым и веселым нравом, и пока вселенная продолжала стремиться к своей единственной цели — тем или иным образом удовлетворять его настойчивые желания, он не склонен был протестовать и, глядя на пламя, опять заливался смехом. Он толкал мяч, полз за ним вслед и хватал его с ловкостью, выработанной на практике. Он пытался проглотить куклу и, лишь повторив такую попытку несколько раз, запомнил, что неоднократно терпел крах в своих попытках, и философски смирился. Задрав ручки и ножки, он покатился и сильно ударился о высокий, как гора, бок этой громадины — Фэн, тогда он ухватил ее за ухо. Огромная Фэн поднялась и исчезла из поля его зрения, а он сразу забыл о ней. Он схватил куклу и попытался проглотить ее, потом повторил такой же фокус с мячом. Затем опять увидел огонь и рассмеялся. Так он жил уже целые века: без обязанностей, без страстей, а плед был такой огромный. У него над головой творились необыкновенные дела: туда и сюда двигались великаны, уносили огромные сосуды, приносили громадные книги, а в пространстве за пределами пледа непрерывно гудели голоса. Но он все забывал. Наконец он обнаружил, что над ним склонилось лицо. Он узнал его, и сейчас же неприятное ощущение в желудке нарушило его покой, лет пятьдесят или долее он терпел его, а потом вскрикнул. Жизнь вновь обернулась к нему серьезной стороной.