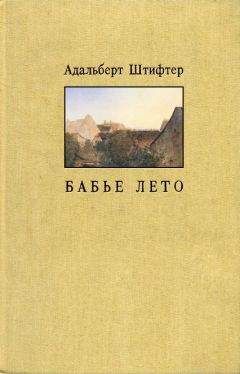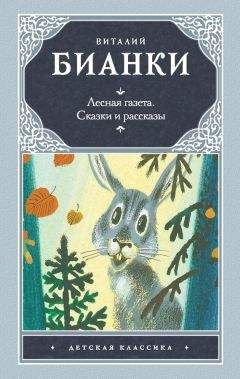Адальберт Штифтер - Лесная тропа
Для людей античности то был рок, грозная, конечная, непреклонная причина свершающегося, он заслоняет собой все, да и нет за ним ничего, так что и боги подвластны ему; для нас это судьба, нечто ниспосланное свыше, что мы должны приять. Сильный покоряется смиренно, слабый противится жалобами и слезами, заурядный теряется и цепенеет перед лицом сокрушительного несчастья или, обезумев, доходит до святотатства.
Но, в сущности, нет, должно быть, и рока, как предельной бессмыслицы бытия, и нет ничего, что бы ниспосылалось каждому из нас в отдельности; вместо этого яркая гирлянда цветов цепью тянется по бесконечности вселенной и посылает свой отсвет в людские сердца — это цепь причин и следствий, — а в голову человека вложен самый прекрасный цветок из всех цветов — разум, око души, он связует нас с цепью и, считая цветок за цветком, звено за звеном, мы достигнем той руки, в которой заключен конец. И если с самого начала мы правильно вели счет и можем обозреть все сосчитанное, тогда уже для нас нет случая, а есть следствие, нет беды, а есть вина; ибо из тех пробелов, что имеются сейчас, вытекает неожиданное, а из недобросовестности — несчастье. Хотя род человеческий ведет счет не одно уже тысячелетие, но из всей цепи раскрыты лишь отдельные лепестки, по-прежнему события жизни протекают перед нами как священная тайна, по-прежнему горе кочует из сердца в сердце — а может, горе тоже один из цветков той цепи? Кому дано это узнать? А если кто вздумает говорить, зачем цепь такая длинная, и потому за тысячелетия раскрыты и заблагоухали всего несколько лепестков, мы ответим ему: для того так и необъятен запас, чтобы каждое новое поколение могло что-то познать для себя — мельчайшая частица познанного сама по себе великое драгоценное богатство и чем больше придет в жизнь новых открывателей, тем великолепнее и драгоценнее будет богатство; о том же, что таится в пучине грядущей жизни, мы угадываем лишь тысячную тысячной доли. Не будем же докапываться до сути вещей, а попросту расскажем об одном человеке, на котором проявилось многое из непознанного, и теперь уже не поймешь, что было необычайным — судьба его или душа. Так или иначе, когда проследишь подобный жизненный путь, хочется задать вопрос: «За что же это?» И тянет погрузиться в невеселые думы о провидении, судьбе и конечной причине всего сущего.
Я собираюсь рассказать о еврее Авдии. Тот, кто слышал о нем или даже видел согбенного девяностолетнего старца, сидящего на пороге белого домика, пусть не поминает его со сложным чувством — будь то с проклятием или с благословением, того и другого он вдоволь пожал за свою жизнь, — лучше пусть вновь увидит его облик из этих строк. А тот, кто даже ни разу не слыхал об этом человеке, пусть не поленится последовать за нами до конца, ибо мы попытались просто восстановить его образ, а уж потом пусть судит о еврее Авдии так, как подскажет сердце.
В самой глубине пустыни, за Атласскими горами, стоит забытый историей древний римский город. Он постепенно ветшал и разрушался и много веков тому назад утратил свое название. Никто не помнит, с каких пор в нем нет уже обитателей, европеец до самых последних времен, не имея о нем понятия, не наносил его на свои карты, а бербер мчался мимо на своем резвом скакуне и, видя покосившиеся стены, либо вовсе не задумывался о них и об их назначении, либо двумя-тремя суеверными мыслями отдавал дань закопошившейся в душе жути, пока из глаз не скрывался последний край стены и до слуха уже больше не долетал вой шакалов, которые хозяйничали в древних развалинах. Повеселев, скакал он дальше, а вокруг опять расстилалась знакомая, безлюдная, прекрасная, издавна полюбившаяся картина пустыни. Однако же, неведомо для прочего мира, в развалинах, кроме шакалов, ютились другие обитатели. Это были сыны самого обособленного из всех племен земного шара, упрямо вперявшие взор в одну-единственную его точку, хотя сами-то они рассеяны по всем обитаемым странам, и несколько капель этого огромного человеческого моря брызгами залетели даже сюда, в опустевший город. Хмурые, чернявые, неопрятные евреи, точно тени, бродили среди развалин, сновали там, внутри, взад-вперед, жили там внутри вместе с шакалами, которых подкармливали время от времени. Кроме единоверцев, живущих во внешнем мире, никто не знал о них. Они промышляли золотом, серебром и другими товарами, а также иногда и скупленным в Египте зачумленным тряпьем и шерстяными тканями, от которых сами нередко заражались чумой и погибали — и тогда сын с покорностью и терпением брал отцовский посох и пускался в странствие и делал то же, что отец, ожидая, чем его подарит судьба. Если кому-нибудь из них случалось быть убитым и ограбленным кабилами, весь род, рассеянный по неприютной, неоглядной пустыне, оплакивал погибшего громкими воплями — потом все затихало и забывалось, только спустя долгий срок где-нибудь находили убитого кабила.
Таков был народ, от которого происходил Авдий.
Надо было пройти через римскую триумфальную арку, мимо двух засохших пальм, чтобы попасть к развалинам стен, назначение которых уже нельзя было определить — теперь они стали жилищем Арона, Авдиева отца. Поверху тянулись остатки водопровода, внизу валялись обломки чего-то совсем уж непонятного, через них приходилось карабкаться, чтобы добраться до лаза в стене, ведущего в жилище Арона. С внутренней стороны выломанного лаза вниз шли ступени — в прошлом карнизы дорического ордена, очутившиеся здесь неведомо когда по воле неведомого разрушительного случая. Они вели в расположенное ниже обширное жилище, снаружи трудно было себе представить нечто подобное под грудами камня и мусора.
То была зала, окруженная мелкими покоями, какие любили строить римляне. Но вместо плиточного или деревянного, каменного или мозаичного пола была голая земля, на стенах вместо фресок или орнамента проглядывал римский кирпич, и повсюду были набросаны свертки, тюки и всякий хлам, наглядно свидетельствуя о том, какими дрянными и разнородными товарами торгует еврей Арон. Больше всего тут было одежды и лохмотьев всех цветов и всех времен. Они висели кругом, впитав в себя пыль почти всех африканских стран. Для сидения и лежания служили вороха старых тканей. Стол и прочую мебель заменяли камни, снесенные сюда из древнего города. За кипой желтых и серых кафтанов была дыра в стене, намного меньше того лаза, который заменял входную дверь; оттуда глядела тьма, как из мусорной ямы. Казалось, через эту щель немыслимо пролезть. Но если, пригнувшись, удавалось в нее протиснуться, то дальше за кривым проходом открывалась новая зала, окруженная другими комнатами. Здесь пол был устлан персидским ковром, в остальных — такими же или похожими коврами. Стены и ниши обиты войлоком и завешаны драпировками, возле них столы из ценного камня и чаши, и даже ванна. Здесь пребывала Эсфирь, жена Арона. Тело ее покоилось на узорчатом дамасском шелку, щеку и плечи ей ласкала самая мягкая и жаркая из всех материй, тканая сказка из Кашмира, такая, как у султанши в Стамбуле. При ней были служанки в красивых платках вокруг красивого и умного чела, с жемчугами на груди.
Сюда Арон сносил все, что было дорогого и что бедным смертным представляется вожделенным благом.
Драгоценные уборы были разбросаны по столам и развешаны на стенах. Свет лился сверху из увитых миртом окон, которые иногда засыпало желтым песком пустыни, но когда наступал вечер и зажигали светильники, тогда все блестело, сверкало, излучало сияние. Величайшим сокровищем Арона, кроме жены Эсфири, был их сын — мальчик, что играл на ковре, мальчик с черными выпуклыми живыми глазами, наделенный всей полуденной красотой своего племени. Этот мальчик и был Авдий, еврей, о котором я вознамерился рассказать, а пока что нежный цветок, расцветший под сердцем Эсфири.
Арон был богаче всех в древнем римском городе. Об этом отлично знали те, что жили с ним бок о бок, ибо он нередко делил с ними свою удачу и тоже все знал о них; но не было тому примера, чтобы это дошло до слуха скакавшего мимо бедуина или ленивого бея в гареме; нет, над мертвым городом безмолвно висела мрачная тайна, словно никогда здесь не слышно было иного звука, кроме воя ветра, осыпавшего город песком, да отрывистого страстного рева, какой издавал дикий зверь, когда над развалинами всходил раскаленный диск луны и заливал их своим светом. Евреи вели торг с ближними племенами, их отпускали и не очень-то расспрашивали, где они живут, а когда другой их сосед, шакал, выходил наружу, его приканчивали и бросали в яму. Оба свои величайшие сокровища Арон одаривал всем, что, казалось ему, принесет им пользу. И когда он, побывав во внешнем мире, где его избивали и гнали из каждого селения, возвращался домой и вкушал те блага, которые древние цари его народа, начиная с самого Соломона, почитали радостью жизни, когда он испытывал прямо-таки сатанинское торжество. И когда порою у него закрадывалась мысль, что бывает и другое блаженство, идущее из души, тогда он говорил себе, что это умножает печаль, от которой надо бежать, и в самом деле бежал от нее, но все же подумывал в один прекрасный день посадить Авдия на верблюда и отвезти в Каир к ученому врачу, чтобы сыночек стал мудрым, как древние пророки и вожди его племени. Однако из этих дум тоже ничего не получилось, потому что они просто пришли в забвение. Итак, мальчик не знал ничего другого, как взобраться на груду мусора, смотреть на огромный необозримый небосвод и думать, что это край господней мантии, а в древние времена Иегова сам спускался на землю, чтобы сотворить ее и чтобы избрать себе народ, а потом посещал его и, возвеселившись сердцем, разделял с ним пищу. Но Эсфирь звала сына вниз, примеряла на него коричневый кафтанчик, потом желтый, потом опять коричневый. Она украшала его драгоценными уборами, чтобы прекрасный жемчуг своим мерцанием оттенял его тонкое смуглое личико, а рядом чтобы сверкал алмаз. Она повязывала ленту вокруг его лба, приглаживала ему волосы и растирала тельце и щеки мягкой тонкой шерстяной ветошью; часто мать наряжала его девочкой или умащала ему брови, чтобы они изгибались над блестящими глазами, как две узенькие черные полоски, а после давала ему любоваться собой в оправленное серебром зеркало.