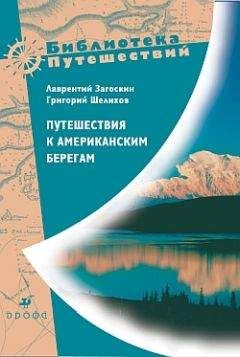Луи Селин - Путешествие на край ночи
Накануне дня, когда эта авантюра должна была сожрать мой последний доллар, я все еще скучал, да так отчаянно, что не желал даже неотложно поискать какой-нибудь выход. Мы так легкомысленны от природы, что лишь развлечения не дают нам умереть на самом деле. Я лично с безнадежным упорством цеплялся за кино.
Выходя из бредовых сумерек отеля, я по-прежнему бродил по окрестным улицам, по этому нелепому карнавалу головокружительно высоких зданий. Меня выматывали протяженность убегающих за горизонт фасадов, надутая монотонность мостовых, кирпичных стен, арок и бесчисленных магазинов, этих шанкров на теле мира, которые исходят гноем многообещающих реклам. Потоки болтливой лжи!
У реки я бродил по несчетным улочкам с домами обычных размеров, то есть таких, в которых я, например, мог бы с тротуара напротив выбить все стекла.
Над этими кварталами витал кухонный чад, товар в лавках не выставляли из-за постоянных краж. Все тут напоминало мне окрестности моего госпиталя в Вильжюифе, даже кривоногая детвора с широкими коленями и шарманщики на тротуарах. Я с охотой остался бы здесь, но бедняки тоже не накормили бы меня, а я еще раньше нагляделся на них, и меня пугала их безысходная нужда. Поэтому рано или поздно я возвращался к небоскребам. «Сволочь! — корил я себя. — Ей-богу, нет в тебе добродетели!» Если уж не хватает духу раз навсегда покончить с хныканьем, приходится мириться с тем, что день ото дня узнаешь себя все лучше.
Вдоль берега Гудзона ходил к центру трамвай, старая колымага, дребезжавшая всеми колесами и расхлябанным кузовом. На маршрут у него уходил добрый час. Пассажиры терпеливо соблюдали сложный ритуал оплаты с помощью своего рода кофемолки для монет, укрепленной у входной двери вагона. За ними наблюдал кондуктор, одетый, как и у нас, в форму «пленного балканского четника».
Вернувшись наконец обессиленным из такой популистской экскурсии, я мечтательно и с вожделением прохаживался взад-вперед перед двойным рядом красоток в фантастическом вестибюле «Стидсрама».
Я был на такой мели, что даже не решался пошарить в карманах и проверить, сколько же у меня осталось. Только бы Лоле не вздумалось сейчас куда-нибудь упорхнуть! — думал я. И потом, примет ли она меня? Сколько у нее попросить на первый случай — полсотни или сотню? Я колебался, чувствуя, что не соберусь с духом, пока еще раз хорошенько не высплюсь и не поем. Потом, если моя рискованная затея удастся, то есть как только я снова наберусь сил, я немедленно примусь искать Робинзона. Робинзон мне не чета. Он по крайней мере решителен. Смел. Он-то уже давно разнюхал все входы и выходы в Америке! И может быть, знает, как приобрести уверенность в себе и спокойствие, которых так недостает мне.
Если, как мне казалось, он тоже приплыл сюда на галере и раньше меня ступил на здешний берег, то сейчас уже наверняка завоевал себе в Америке прочное положение. Уж его-то не смущает равнодушная суетливость здешних чудиков! Может быть, раскинув мозгами, я тоже сумел бы найти работу в одной из контор, броские объявления которых читал на улицах. Но при одной мысли, что мне придется идти туда, я терялся и сникал от робости. Нет, с меня довольно и моего отеля. Гигантской и гнусно оживленной могилы.
Может быть, эти нагромождения коммерческих структур, разгороженных бесчисленными переборками и похожих на соты, по-иному, чем на меня, действуют на тех, кто к ним привык? Может быть, этот застывший поток и дает им чувство уверенности, но для меня он был лишь отвратительной машиной принуждения, системой кирпичных стен, коридоров, замков и окошечек, гигантской неизбывной архитектурной пыткой.
Философствовать — значит всего лишь испытывать страх на свой лад и трусливо обольщать себя иллюзиями.
Когда в кармане у меня осталось только три доллара, я выложил их на ладонь и долго смотрел, как они посверкивают в свете вывесок Таймс-сквер, странной маленькой площади, где над толпой, поглощенной выбором кино, брызжет реклама. Я поискал ресторан подешевле и зашел в одну из тех рационализированных закусочных, где обслуживание сведено к минимуму, а ритуал принятия пищи упрощен до точной меры естественной потребности.
Вы входите, получаете поднос, становитесь в очередь. Ждете. Соседки, очень миленькие и тоже кандидатки на обед, молчат… Странное, должно быть, испытываешь чувство, думал я, когда имеешь возможность подойти к одной из этих барышень с точеным кокетливым носиком и сказать, предположим, так: «Мисс, я богат, очень богат. Скажите, что мне заказать для вашего удовольствия».
Тогда все, что было так сложно минутой раньше, разом становится просто, божественно просто. Все преображается, и чудовищный враждебный мир мгновенно сворачивается притворно послушным бархатистым клубком у ваших ног. Вы, вероятно, тут же избавляетесь от изнурительной привычки мечтать о везунчиках, об удачно сделанных состояниях — у вас ведь все уже есть. Жизнь неимущего — это вечный бред и вечный отказ себе во всем, а познать можно лишь то и отказаться лишь от того, что имеешь. С меня было довольно: я перепробовал столько мечтаний и от стольких отрекся, что в моем плачевно дырявом и сошедшем с рельсов сознании со свистом разгуливал сквозняк.
А пока что я не решался перемолвиться с посетительницами даже самым безобидным словом. Я послушно и молча держал свой поднос. Когда подошла моя очередь придвинуться к фаянсовым посудинам с горохом и кровяной колбасой, я взял все, что мне дали. В закусочной было так чисто и светло, что я чувствовал себя на плиточном полу, как муха на молоке.
Раздавальщицы, похожие на больничных сестер, стояли у кастрюль с лапшой, рисом, компотом — у каждой своя специальность. Я загрузился тем, что накладывали самые хорошенькие. К моему сожалению, они не улыбались посетителям. Получив свою порцию, мы осторожно направлялись к столикам и освобождали место следующему. Передвигаться, удерживая поднос в равновесии, нужно было мелкими шажками, как в больничной операционной. Все это сильно контрастировало со «Стидсрамом» и моей комнаткой с отделкой из черного дерева, расцвеченного позолотой.
Но раз клиентов так щедро орошали светом, на минуту выдергивая нас из тьмы, обычно присущей нашему положению, значит, это было частью какого-то плана. Хозяин знал, что делает. Я держался настороже. После стольких дней пребывания во мраке очутиться вдруг в потоках света — это оказывало странное действие. У меня оно вызвало нечто вроде возобновления бреда.
Под доставшимся мне столиком из непорочно чистого базальта мне никак не удавалось спрятать ноги — они выпирали отовсюду. Мне ужасно хотелось куда-нибудь их деть, потому что за окном на нас глазели стоявшие в очереди люди, которых мы оставили на улице. Они ждали, пока мы нажремся и освободим для них место. Вот затем, чтобы нагонять им аппетит, нас так щедро и освещали: от живой рекламы прямая выгода. Клубничины на моем куске торта играли такими световыми бликами, что я не решался его проглотить.
От американской коммерции никуда не денешься.
Несмотря на огни, слепившие меня, несмотря на свое смущение, я все-таки приглядел сновавшую мимо меня миленькую официанточку и дал себе слово не пропускать ни одного из ее соблазнительных движений.
Когда в свой черед она направилась ко мне, чтобы унести мой прибор, я отчетливо заметил, что глаза у нее необычной формы — внешние углы их были острее и вздернуты выше, чем у наших женщин. Веки со стороны висков тоже слегка изгибались к бровям. Словом, в них была какая-то жестокость, но как раз в меру, жестокость, которую хочется целовать, горькость, коварная и приятная, как у рейнских вин.
Когда она очутилась совсем рядом, я стал делать ей знаки, словно давая понять, что я ее узнал. Она посмотрела на меня, как на зверя, нисколько не польщенная, но все-таки несколько заинтересованная. «Вот первая американка, — подумал я, — которая вынуждена обратить на меня внимание».
Доев лучезарный торт, мне пришлось уступить свое место другому. Тогда, чуточку спотыкаясь, я пошел прямо по направлению к выходу, но, обойдя человека, ждавшего нас с нашими деньжонками у кассы, повернул и ринулся к блондинке, чем сразу резко выделился на фоне дисциплинирующего света.
Все двадцать пять раздавальщиц на своих постах у булькающих бачков одновременно показали мне знаком, что я ошибся дорогой, что я заблудился. Я заметил сильное завихрение в хвосте стоящих за окном людей, а те, кто собирался сменить меня за столиком, воздержались садиться. Я нарушил установленный порядок. Люди вокруг удивленно зашумели. «Опять иностранец!» — загалдели они.
Умная или глупая — не важно, но у меня была своя идея: я не хотел терять красотку, которая меня только что обслужила. Малышка посмотрела на меня — тем хуже для нее. Хватит с меня одиночества! Хочу симпатии! Близости!