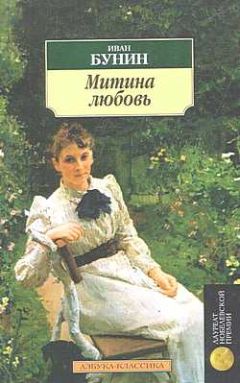Иван Бунин - Под серпом и молотом
— Арестую, если вздумаете уходить!
Так и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса,[58] человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в девять утра, — в Софии публичные лекции, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в её, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось всё наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла, — на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по тёмной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан не запертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, уж не помню, кто именно, принёс нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше, чем за минуту перед его появлением на эстраде, под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.
Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичок», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как называл ее болгарский сыщик, посланный арестовать и её, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие ещё были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя, однако, только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И вот я пошёл к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение, — разменять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал:
— Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?
— Так точно, — ответил я.
— А из какой именно вы академии?
Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог
— Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.
Он покраснел и резко отчеканил:
— Всё же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.
Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить ещё девятьсот на жену, и вышел из посольства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо постоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:
— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной,[59] касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.
-В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника[60] (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имении которой, в селе Васильевском, я подолгу живал многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде довольно замечательных:
— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.
— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.
— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.
— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь; вхожу, а он, весь трясясь, выгребает её пальцами из баночки и жрёт.
— На днях один из жильцов нашего дома пошёл к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. Скажите, пожалуйста, который час? Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушёл. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку… Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствию Ленина не будет конца».
— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталия Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала к нам Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь Васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную верёвками, на которой сидел её мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр — смотреть «Синюю птицу»…
— Один наш знакомый, очень известный учёный, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населённом мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью… Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!
— Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живёт какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тёпел, весь в застежках. Ему сносу не будет!»
— Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться с своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с жёлтым и опухшим от голода лицом. Всё плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, прося устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпьё в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушёл с этим мешком на вокзал, на прощание поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.
— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, писателях эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»