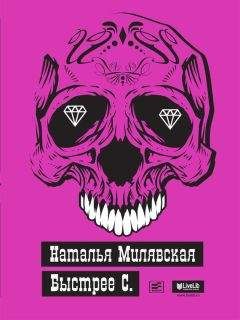Сэмюэль Беккет - Мечты о женщинах, красивых и так себе
Режиссер Питер Брук так написал о пьесах Беккета: они «обладают качествами бронированных автомобилей или идиотов: можете стрелять по ним, можете бросать в них торты с кремом — они продолжают свой путь, несмотря ни на что. ‹…› Беккет неизменно раздражает людей своей честностью».
По искренности, по беспощадности — в первую очередь к самому себе, к своей жизни, — по незащищенности, по отказу от безумного мира Беккета, на наш взгляд, можно сравнить разве что с Цветаевой, только вот тональность совсем другая. Там, где у Цветаевой крик, у Беккета — шепот и приглушенный смех.
Чего добивается от нас философия? Вероятно, справедливо утверждение, что она тщится получить ответ на три вопроса: (1) что я могу знать? (Эпистемология.) (2) как мне следует поступать? (Этика.) (3) на что я могу надеяться? (Метафизика.)
Своими романами, пьесами, стихами и малыми, с трудом поддающимися жанровому определению текстами Беккет трижды отвечает — нет: понять мне здесь ничего не удастся, делать мне нечего (ну, или почти нечего) и надеяться тоже не на что.
Сэмюэля Беккета сложно заподозрить в чрезмерном человеколюбии. Что мы различаем в его книгах?
Бога как вечное, а потому пугающее отсутствие. Невозможность познания и доведенную до крайности декартовскую антиномию духа и тела. Грязь делает людей отвратительными, секс — смехотворными, одиночество — необщительными, иногда деспотичными, чаще жалкими. Наше тело — это, по словам персонажа романа «Моллой», «длительное безумие» — толкает нас на ежесекундные усилия и поступки, онтологическая цель которых совершенно неясна, а потому абсурдна, то есть, в латинском значении этого слова, недоступна для восприятия. Жизнь — тягостная лекция, у которой, к счастью для общей истории человечества, есть конец. Пожалуй, единственное, что позволяет героям Беккета не покончить с собой еще до того, как открыта первая страница книги, — это грустный смех, бесконечно далекий от ницшеанской помпезности и сартровского самолюбования. А грусть никогда не бывает злой.
Примечания
1
Ср.: Исход, 20:4.
2
Сначала (ит.).
3
За неимением лучшего (фр.).
4
Следовательно (лат.).
5
Говорит Грок (лат.). Здесь и далее в книге подразумевается великий швейцарский клоун Чарльз Адриан Веттах (1880–1959), выступавший под сценическим псевдонимом Грок. Беккет восхищался искусством Грока и вывел его одним из «демиургов» своего первого романа.
6
Имеется в виду басня Лафонтена «Отрекшаяся мира мышь» (перевод А. Сумарокова).
7
Разом и одновременно (лат.).
8
Больше ничего (нем.).
9
Тем хуже (фр.).
10
Вероятно, имеется в виду стихотворение Стефана Малларме «Прощай».
11
Многим служили приютом (лат.). Овидий, «Метаморфозы», книга III.
12
Тисканье, лапанье (нем.).
13
Женщина, баба (нем., груб.).
14
Имеется в виду Джон Рескин (1819–1900), английский философ и искусствовед, изучавший творчество Микеланджело.
15
Здесь: Божья искра (нем.).
16
До пота (лат.).
17
Тайком (ит.).
18
«Солнце умерло» (фр.).
19
Искаженная строчка из стихотворения Дж. Леопарди «Воспоминания»: «При свете тусклого ночника слагая песнь» (ит.).
20
Мари Лоренсан (1885–1986) — французская художница, возлюбленная Гийома Аполлинера. Ее живопись у Беккета ассоциировалась с мешаниной, кашей.
21
Сердитым (нем.).
22
Ерунды, чепухи (нем.).
23
Любовные вздохи (ит.).
24
Услужливого поклонника (ит.).
25
До вещей (лат.).
26
Ужасно любимый (нем.).
27
«Милый,
Что касается стиля, то есть я хочу сказать, из того, что говорил об этом поросенок Марсель, в эту минуту мне нравится, так я думаю, если осмелюсь это признать, снеговое сердце. Я оказываю тебе честь, правда ведь, говоря с тобой, так сказать, раскованно. Стало быть, вчера, лежа возле невыразимого Либера, я предложил его просветленному сознанию — к чему скрывать — фразу из твоего письма, которое, признаюсь тебе, не могло меня не огорчить: П. принимает слова за чистую монету. Он не способен противостоять экстазу расслаивания. Он извлекает прибыль (и с какой спесью!) из словесных петель. Такой далекий — о мерзость! — от подкожной реальности, что заставляет его так потеть и трепетать. Либер, небрежно растянувшийся подле меня, прекрасный, без дураков, как сказочный ручей, не сдержался: «Туннель!» — «Что-что?» — «Он так красив, твой друг, он такой откровенный глиномес, что я готов его любить. Скажи, здесь и там, где следует, он худенький и пухленький? Заурядный? Губастый? Ах! Заурядная губастая жаркая плоть! Поскреби меня, — заревел он, исходя пеной при мысли о тебе, — страстная шпанская мушка, скреби, я тебе приказываю!» Я скребу, я ласкаю, я говорю себе: это суждение слишком недостойно человека такой души, так как П. никогда не отказывается от клейкого стебля своей реальности. Он остается погруженным в нее, он сучит руками, он беснуется, он страдает оттого, что ему приходится идти на такие пошлые компромиссы, он не выделывает никаких петель, он слишком привязан к своему болоту, он разрушается от кончиков ногтей до центра своей вселенной.
Л. резко вскакивает, раздевается, сочиняет стихотворение, у него отовсюду течет. Передо мной, в теннисоновском перекрестии, шевелится твое красивое квадратное лицо, пульсирующее как сердце. Уже обрисовывается беременный животик Востока. Никто кроме него, говорю я себе, не знает, как испытывать стыд, как позволить уколам ничтожного стыда пронзать себя, заставлять краснеть. Рези нижнего неба раскалывают каменные плиты. Чуть приоткрывается ящик утра, младенец извергается, Полишинель, измазанный кровью, будто умер при родах. Пока не закипел чайник, которым, разумеется, мне предстоит заняться, я закрываю глаза, и там, в их глубине, рождается стихотворение:
Нет, не Пеликану
не такому уж жалкому
и не египтянке не такой уж чистой
но моей Люси
оптику и кожевнице
которая меня не исцелила
но могла бы
и Иуде Фаддею
его останкам я поклонялся
им посвящаю безнадежное дело
которое кажется моим
Я высунулся, сдерживая оргазм, как пилот, в окно, только для того, чтобы немного понюхать плаценту Авроры. Она лишена запаха.
Ах да, знаешь, ты окажешь мне великую любезность, если сообщишь, как только это станет возможным, в какое именно мгновение и каким именно скорым поездом ты собираешься броситься в воронку дымящегося Парижа? Я рассчитываю быть первым, кто сожмет тебя в объятиях по прибытии.
Какой мне смысл скрывать от тебя, что я пребываю, в эту самую минуту, и вряд ли что-нибудь изменится в ближайшее время, в состоянии УГРЮМОСТИ? что физически я сломя голову несусь от плохого к худшему и что интеллектуально мною преимущественно и чаще всего владеет плоская безмятежность, размеченная, это правда, головокружительными извержениями пены и ясности. И правда, интересный час — этот мясистый свет зари, о котором ты так любишь говорить.
С твоей маленькой поклонницей — хе! хе! — стало быть, покончено.
«Моя избыточная и хрупкая ярость!»
Не огорчайся. Это твои слова.
Итак, ты приезжаешь, покалеченный зазубринами своей холодноватой Jungfrau… Я скрючу пальцы, будто для того, чтобы поскрести крашеную поверхность. Тем не менее, если тебе так хочется, я смягчу свои действия, я их сглажу, да, я это сделаю. Знаешь, ты задохнешься от волнения, когда поймешь, каким Эверестом измеряется мое расположение к тебе!.. Это сильнее, старый долбоеб, чем
твой Люсьен».
Под упоминаемыми в письме Марселем и инициалом П., по-видимому, подразумевается Марсель Пруст, а «квадратным лицом» обладает племянник Рамо в романе Дидро.
28
«Совсем одна… В своей замкнутой глубине» (ит.). Данте, «Чистилище», песнь VI. Здесь и далее в переводе М. Лозинского.
29
Некогда сосной девушка была (лат.).