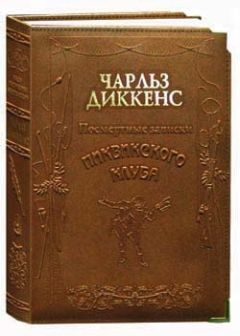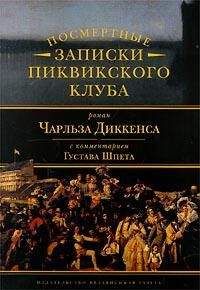Вадим Шефнер - Сестра печали
— …А Камышова-то из двадцать девятого номера поначалу раз по десять в милицию с улицы таскали, — повествовала она. — Он лицом на заграничного шпиона очень похож, да еще в брюках этих навыпуск, в гульфах — чистый диверсант. Как выйдет из дому в магазин — двух домов не пройдет, к нему сразу же женщина какая-нибудь привяжется: «Пройдемте-ка в милицию, проверьтесь на личность!» Тут другие еще подойдут, обступят — и в пятнадцатое отделение тянут. Только его оттуда отпустят, выйдет, пройдет три дома — опять какая-нибудь подкатится, опять та же история. Он уж взмолился в милиции: «Дайте мне, Христа ради, справку, что я нормальный гражданин, что не диверсант я! Ведь я пенсионер, холостой, в магазины за меня ходить некому. Я питаться должен!» А в милиции ему: «Снимите ваши гульфы, наденьте нормальные штаны — и ваше дело сразу полегчает»… Ну, теперь-то уже за шпионами гоняться перестали. Настоящий-то шпион в штанах навыпуск, в ботинках на толстой подошве ходить не будет, он…
— Тетя Ыра, а Костя как на фронт ушел? — прервал я ее рассуждения. — Какой у него вид был? Не грустный?
— А с чего ему веселым быть! — отрезала тетя Ыра. — Кому сейчас веселье, когда нехристи на нас напали!.. Костя все суетился, бегал по делам, потом два дня пропадал, потом вдруг в полной форме домой явился. Гимнастерка зеленая, военная, а брюки синие диагоналевые, как вроде у милиции. Это им всем добровольцам такую форму выдали… Угостил меня и инженершу плодоягодным вином, сам тоже хватил. Потом бутылку трах об стену. «На счастье», говорит… Я кинулась было осколки собирать, а он мне: «Осколки пусть валяются, я их уберу, когда с фронта вернусь».
— Что-то долго от него письма нет, — сказал я. — Моего нынешнего адреса он не знает, но мог бы вам написать. А может, он Леле написал и письмо лежит в кружке!
— Ему и писать, верно, некогда. Ты-то много с фронта писал?
— Я недолго был. А от Кости пора бы письму.
— Вежливый здесь персонал, — переменила разговор тетя Ыра. — И порядок не хуже, чем в доме отдыха. Докторша-то меня до самой палаты проводила.
— Это не докторша, это дежурная сестра по отделению.
— Все равно хороший порядок… На той неделе опять тебя навещу. А к Николе пойду — свечку за твое здоровье поставлю. Перебои, правда, со свечками сейчас.
— Не надо мне свечек, тетя Ыра. Никакого толку от них нет.
— Хорошие вы ребята, порядочные, а в бога не веруете, — сокрушенно проговорила тетя Ыра. — А чудеса-то есть! Запрошлое воскресенье я от обедни из церкви шла, так старушка одна прибочилась ко мне, аккуратная такая. Эта старушка мне по большому секрету сказала: «Это было недавно. В Лавре Александро-Невской на старинном кладбище старичок с крыльями появился. Ходит между могилок, сам собой светится, а ни слова не говорит. Тут милицию вызвали выявить, кто такой и откуда. А он взлетел на склеп и заявляет оттуда: „Руками не возьмете, пулей не собьете, когда схочу — сам улечу. Делаю вам последнее предупреждение: идет к вам черный с черным крестом, десять недель вам сидеть постом, как встанет у врат — начнется глад, доедайте бобы — запасайте гробы. Аминь!“ Сказал он это — и улетел, только его и видели… Не к добру такое, Толя!
— Тетя Ыра, это вражеская пропаганда, они сейчас листовки всякие бросают на Ленинград. Вам бы эту старушку божию до отделения проводить и сдать. Она с чужого голоса поет.
— Ну-ну, уж так в отделение ее и тащить… Какой ты прыткий! — отмахнулась тетя Ыра. — Значит, навещу тебя на той неделе.
Тетя Ыра ушла, а я пошел в библиотеку. Книги в ней остались от Дворца культуры, а библиотекарша была госпитальная, в белом халате. Она дала мне лист бумаги и четыре канцелярские кнопки. Прикнопив листок к обтянутому гранитолем столу, я написал письмо Леле.
Ночью мне приснился этот дурацкий летающий старичок. Он порхал на прозрачных стрекозиных крыльях над крышами и дворами, в руке держал венок желтых одуванчиков. Потом крылья его стали мутнеть, тяжелеть. Теперь оказалось, что я сам летаю, очень плавно и медленно. Вдруг кто-то дернул меня за крыло, и я упал и проснулся.
— Вниз, вниз! — приказала санитарка. — Все ходячие — вниз своим ходом!
За стеной выли сирены воздушной тревоги, били зенитки. Взрывов бомб не было. По запасной лестнице в бомбоубежище нехотя спускались ходячие, слышался стук костылей о ступени. Тяжелых санитары несли на носилках. Старший медперсонал наводил порядок, поторапливал отстающих. Сквозь поток движущихся вниз торопливо пробирались вверх дежурные по крыше — в ватниках поверх белых халатов, в дерюжных рукавицах. В свете синих лестничных лампочек все лица казались бледными. Город продолжал выть во все сирены, будто большой корабль, идущий в густом тумане.
В большом и теплом подвале светились матово-белые плафоны, стояли широкие скамейки и ряды серых фанерных шкафчиков — словно в предбаннике. Я вспомнил бомбоубежище в техникуме, где у нас шли занятия по военному делу и где произошел мой конфликт с Витиком Бормаковским.
Теперь я вспомнил Витика без всякой злобы. В сущности, я должен быть ему благодарен во веки веков. Ведь не произойди тогда этой стычки — не надо было бы мне ехать на Амушевский завод, и я никогда бы не встретился с Лелей… Но нет! В первую очередь я должен быть благодарным Люсенде. Именно ей. Ведь не ущипни я ее тогда по ошибке, не рассердись она на меня — и все бы пошло по-другому. Люсенда — щипок — стычка — разговор на чердаке с Жеребудом — Амушево — Леля. Значит, Лелю я встретил благодаря Люсенде.
Объявили отбой. Все заторопились в свои палаты. Я сразу уснул, и ничего мне больше в эту ночь не снилось.
30. Встреча
Через два дня меня перевели в «большую палату», где находились выздоравливающие. Она была развернута в танцевальном зале. Из конца в конец зал этот уставили койками и больничными тумбочками — и все равно зал не казался тесным. Койки стояли где-то на самом его дне, а он своими белыми стенами, розоватыми пилястрами уходил ввысь, к молочно-синеватому потолку, к хрустальным люстрам. И хоть на каждой койке лежал человек, и соседи разговаривали друг с другом, в зале никогда не бывало шумно. Все слова, все возгласы всплывали вверх, как воздушные пузырьки, а внизу оставался негромкий, слитный, нераздражающий гул.
Еще недавно здесь танцевали. В проходах паркет стал уже шершавым, а под кроватями он был еще гладок и блестящ. Ночью, сквозь запах медикаментов и хлорки, робко пробивались прежние бальные запахи зала. Вдруг потянет восковой мастикой, духами, пудрой, туфельным лаком — и еще чем-то празднично-мирным, довоенным.
Оттого, что теперь, в сущности, я был здоров, а делать было нечего, мне стало плохо спаться. Чтобы чем-то заполнить ночную пустоту, я вспоминал читанные книги и виденные фильмы. Вспоминал свою жизнь до встречи с Лелей. О Леле ночью я старался не думать. Но книги, фильмы, воспоминания — все это было как маленькие комочки земли, а бессонная ночь была — как глубокий ров, и эти комочки падали на его дно, а он оставался таким же глубоким.
Потом я научился растягивать минувшее время, расплющивать его, чтобы оно, как плоский, но все же прочный мост, повисало над черным оврагом бессонницы. Я вспоминал детдомовскую дачу в Орликове, где был огород и где каждый из ребят шефствовал над каким-нибудь его участком. Мне тогда очень нравилось копать гряды и сажать петрушку, укроп и редиску, а потом полоть, поливать, следить день за днем, как посеянное вырастает. И вот теперь я каждую ночь мысленно вскапывал грядки, и полол их, и следил, как растет все, что на них посеяно и посажено. Теперь я видел каждую грядку, каждое растение, каждую струйку воды из лейки и каждый след своих сапог в проходах между грядками.
Когда мой ночной огород дал мне все, что он мог дать, я начал думать о швертботе. Года три тому назад мы с Володькой мечтали построить свой швертбот или где-нибудь утащить старый и переделать его заново. Мы даже читали книги — как надо строить и ремонтировать спортивные суда. И вот теперь я стал представлять себе ночью, как бы мы с Володькой переоборудовали старенький, купленный по дешевке шверт. Я начал с того, какая будет каюта и какой кокпит, какие будут банки, и полочки, и шкафчик для еды. Я работал не спеша, обмозговывал каждую деталь. Из-за формы окошек мы с Володькой поспорили: он хотел, чтобы они были круглые, как иллюминаторы на большом корабле; я настаивал на прямоугольных — они дадут больше света, и в каюте можно будет читать, сидя на боковой банке. Потом Володька меня уговорил. Вернее, я вспомнил, что его нет в живых и надо с ним соглашаться. Мы покрасили суденышко в светло-зеленый цвет, а ниже ватерлинии — суриком. Теперь оставалось дать имя, и на это ушло много времени. Я предлагал простые имена: «Надежда», «Удача», «Симпатия»; Володьке нравились странные названия: «Саранчук», «Визионер», «Бандюга», «Инфекция». Потом мы пришли с ним к соглашению, и я изготовил из плотного картона трафарет; на носовых скулах судна появилась синяя надпись «Вероятность». Теперь надо было достать парусину и такелаж.