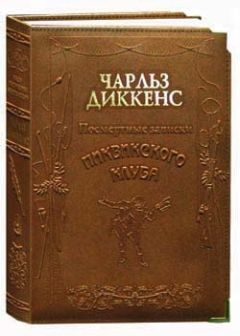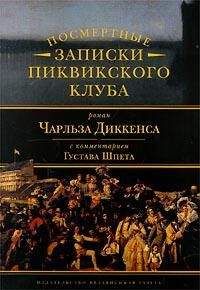Вадим Шефнер - Сестра печали
Когда я подтащил Логутенка к забору и положил его на землю, снова с неба послышалось гуденье. Видно, «юнкерсы» пошли во второй заход. «Ну, теперь-то не так страшно», — подумал я. В этот миг рядом ударил ослепительный грохот, меня толкануло в плечо и швырнуло прямо на Логутенка. Мне почудилось, что я куда-то лечу — лечу и никак не могу упасть. Потом ничего не стало.
Меня разбудила боль. Кто-то грубо, с силой вытаскивал меня из моего несуществования. Я начал кричать. Но или не слушали, или не слышали. Что-то закачалось подо мной, и я опять полетел куда-то, но теперь это было больно.
— Тот тоже живой! Неси! Неси! — услышал я из страшной дали писклявый голос санинструктора Денникова — и сразу не то уснул, не то кто-то выключил рубильник, и всюду стало темно и тихо.
29. Опять в Ленинграде
Этот госпиталь был развернут в помещении Дома культуры. Первые дни я лежал на правом боку в небольшой четырехкоечной послеоперационной палате, у самого окна. Оконный проем доходил почти до пола, и днем, когда поднимали синюю бумажную штору, я мог видеть улицу. Это была улица военного времени; и если б на моем месте лежал какой-нибудь марсианин, свалившийся сюда прямо с неба, он и то понял бы, что дело в городе неладно. Две витрины, заделанные досками, и угловое окно в нижнем этаже, забранное кирпичом, и узкая бетонированная амбразура в этом окне; а все остальные окна крест-накрест перечеркнуты бумажными полосами.
Ранение мое оказалось не то чтоб несерьезным, но для жизни не опасным. Просто я потерял много крови, так как нас с Логутенком не сразу хватились и не сразу нашли. Мне поранило левую руку чуть ниже плеча, не осколком бомбы, а обломком доски. Кость была цела, но в мускульной ткани застряло несколько щепок. Крупные щепки вытащили или вырезали — я не помню, как это происходило, — мелкие еще сидели во мне и выходили с гноем. Рука вздулась и болела.
Но постепенно я привык к боли. А когда я привык, то боль стала постепенно уходить. После каждой перевязки я чувствовал себя все лучше. Осталась только слабость, и все время хотелось есть, хотя кормили в госпитале хорошо: голодное время еще не началось.
Как только я немного очухался и начал понимать, что к чему, я попросил сестричку написать Леле; несмотря на то, что повреждена была левая рука, я правой писать не мог еще. Письмо пошло к Леле, и я стал ждать ее. По моим расчетам, Леля должна была явиться в госпиталь через день.
Мне почему-то казалось, что ее пропустят в палату в любое время, кроме ночи, конечно. Я представлял себе, как она войдет. Ее шаги я услышу еще издалека и притворюсь, будто сплю. Она войдет, но сразу меня не увидит, потому что я ведь лицом к окну. Она спросит Гамизова, что лежит на соседней койке, где же я. Тогда я запою будто бы пьяным голосом: «Скажите, девушки, подружке вашей…» Она засмеется, а может, и засмеется и заплачет, и подбежит ко мне.
Миновал день отправки письма и настал следующий. На душе у меня было спокойно и ясно. Сегодня к вечеру письмо придет по адресу, а завтра Леля придет ко мне, и сегодня я могу заранее радоваться завтрашнему дню. И сводка сегодня не такая уж плохая: наши крепко держатся под Лугой. Вдобавок я начал ходить. И теперь, выйдя в коридор, миновав умывалку, я спустился по лестнице на шесть маршей. Лестница была запасная, я никого не встретил. Потом, пройдя длинный коридор, я уперся в широкую стеклянную дверь, толкнул ее ногой и очутился на большой парадной площадке. Здесь за белым столиком сидела санитарка, около нее на стене чернел телефон. Санитарка читала книгу и при виде меня захлопнула ее. Это было «Красное и черное» Стендаля.
— Девушка, можно позвонить?
Она посмотрела в коридор.
— Звоните, но только чтоб недолго. И потом тут кнопки перепутаны. — Она подняла на меня глаза, и я понял, что она только что плакала. «Очевидно, из-за аббата Сореля», — подумал я.
Я снял трубку и, держа ее в руке, нажал на кнопку «Б», назвал барышне номер. Сквозь телефонные писки и хрипы я услышал шум примусов от кухни, чьи-то шаркающие шаги. На самом деле ничего этого слышать я не мог.
— Номер не отвечает, — проговорила барышня.
— Вы потом можете еще раз позвонить, — сказала санитарка, пристально посмотрев на меня. — Это вы домой?
— Да, — ответил я. — Но там нет никого.
— Вы потом можете еще раз позвонить, — повторила девушка, встав с белого стула. — Я еще два часа дежурю… Скажите, вы часто писали домой, пока вас не ранило?
— Меня очень быстро ранило, — ответил я. — А что?
— Папа нам каждый день писал с фронта, а теперь одиннадцатый день нет письма. Как вы думаете?
— Просто полевая почта плохо работает. Потом вам сразу целая пачка писем придет, — небрежно ответил я, направляясь к стеклянной двери.
— Это вы серьезно говорите? — спросила она, забегая вперед и распахивая передо мной дверь.
— А с чего мне вам врать!
Я зашагал по коридору, не оглядываясь. Я знал, что полевая почта не так уж плохо работает.
Добравшись до своей палаты, я прошел мимо дверей, поднялся по какой-то лесенке в пять ступенек и очутился в узеньком безлюдном коридорчике, куда выходили узкие коричневые двери. «Костюмерная» — прочел я на одной, а на другой — «Гримерная». Я толкнул ногой дверь в гримерную. Это была маленькая комнатка с круглым, как иллюминатор, незамаскированным окошком и темно-вишневыми стенами. В одном углу ее стоял жестяной ящик с надписью «гипс медицинский», связками лежали тонкие деревянные брусочки, а подальше стояло красное плюшевое кресло; весело блестело большое, почти во всю стену, зеркало.
Осторожно, боясь удариться перевязанной рукой о подлокотник, я уселся в кресло. Из зеркала на меня глядел бледный, но не исхудалый бритоголовый субъект в серых полосатых пижамных штанах, в рубашке с завязками вместо пуговиц. «Вот до чего — и то ничего», — подумал я и стал смотреть в круглое окно.
Окно выходило на север. Внизу лежали застывшие волны крыш. Если бы стать великаном — можно было бы побежать по ним, с гребня на гребень, перепрыгивая через дворы и улицы, через Обводный, Фонтанку, канал Грибоедова, Мойку, Неву… Через десять минут был бы на Васильевском острове!»
Потом я загадал: сосчитаю до ста; если никто сюда не заявится и не погонит меня в палату, значит, завтра, и послезавтра, и вообще, и в частности, и во веки веков все будет хорошо. Я честно, не торопясь и не пропуская ни одной цифры, досчитал до сотни. Никто не вошел. Но я не торопился уходить. Давно не бывал один, все на людях, все на виду у какого-нибудь хоть маленького, да начальства. Я соскучился по самому себе. Теперь одиночество, как большое спокойное море, омывало меня, уносило куда-то. С каждой минутой на душе становилось легче. Затем я тихо вышел из комнатки, тихо вернулся в палату.
— «Доской раненный» пришел! Ура! — громогласно объявил Гамизов. — Ну, как первый выход?
Мне совсем не нравилось это дурацкое прозвище. Но рассказывать о том, что доской садануло меня, когда я вытаскивал Логутенка, было как-то неловко. Да и поди проверь: из медсанбата его отвезли в другой госпиталь.
— Слушайте, ребята, завтра ко мне должна прийти одна знакомая, так вы при ней так меня не называйте, — попросил я.
— Ладно, никто завтра тебя не будет звать «доской раненный», — ответил за всю палату Гамизов. — И никто девушке не скажет, что тебя повредило заборной доской. Ты герой-летчик: ты сбил пять «мессершмиттов», а шестой сбил тебя. Страна должна знать своих героев! Девушка будет гордиться тобой.
— Она знает, что никакой я не летчик.
— Не бойся, все будет в порядке. Мы ж понимаем… — Он уткнулся в «Борьбу миров» Уэллса, держа книгу обеими руками над лицом. Мне была видна обложка с зеленым гигантским марсианином; на трех железных ногах он шагал над горящим Лондоном. Гамизов много читал, но никак не мог привыкнуть, что в книгах действуют вымышленные люди. Вот и теперь, не отрываясь от книги, он начал выражать недовольство:
— Плохой, сволочной человек — и ничего больше! Трепач чертов!
— Чего ты ругаешься? — спросил я его. — Кто трепач?
— Артиллерист этот трепач — вот кто! Натрепал языком: будем с марсианами бороться, и то, и се — а потом размагнитился, пить стал, сдрейфил. Не люблю таких.
— Опять ты переживаешь! Ведь это только на бумаге.
— Сам знаю, что на бумаге, — обиженно ответил Гамизов. — Но не люблю нечестных людей… Вот нам бы сейчас такой тепловой луч, как у марсиан! Мы бы живо перешли в наступленье, а там и до Берлина бы дошли.
— Луч в книжке только. Ты вот без луча дойди.
— Это ты дойди. Я никуда уже не дойду, — тихо ответил Гамизов, и мне стало стыдно за свои слова: у него была ампутирована правая ступня.
— Ты, Гамиз, извини меня. Я что-то не то сказал…
— Ты ж не со зла, просто не подумавши…
* * *
На следующий день я проснулся рано. До обеда Леля как бы с каждой минутой приближалась ко мне. Вот она уже выходит из дому, вот идет по Симпатичной линии к трамваю, вот входит в подъезд Дома культуры… Несколько раз я спускался на первый этаж встречать ее. Становился у стены, покрашенной бледно-зеленой масляной краской, под табличкой со стрелкой «Буфет» — и ждал. Проходили ходячие раненые, санитарки, медсестрички, врачи. Меня никто не гнал отсюда, но каждый, проходя мимо, скользил взглядом по мне, и стоять было неловко. Я переходил к другой стене, где висела другая табличка со стрелкой — «Радиоузел ДК». Потом шел наверх. На душе было тревожно, но рука почти совсем не болела и голова от ходьбы не кружилась.