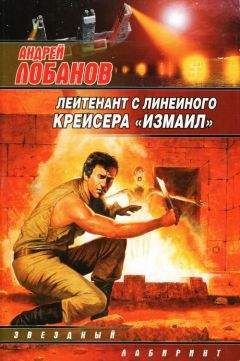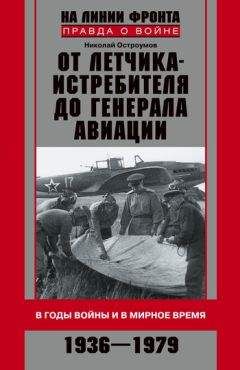Томас Манн - Королевское высочество
— Благодать? — переспросил Клаус-Генрих.
— Ну, да, — уверенно и даже с раздражением подтвердила она. — Благодать снизошла на меня, когда мера испытания достигла предела и, говоря иносказательно, тетива вот-вот могла порваться. Вы так еще молодьг, — продолжала она, по рассеянности забыв даже титуловать его, — так неискушены в горестях и пороках нашего мира, что даже и вообразить себе не можете, сколько я перестрадала. В Америке у меня был судебный процесс, на который вызвали многих генералов. Тут обнаружились такие дела, что моей философии на это не хватило. Мне пришлось наводить порядок во всех казармах и все-таки не удалось до конца очистить их от распутных баб. Те и по шкафам попрятались, некоторые даже под пол забрались, и потому-то они каждую ночь нещадно терзают меня. Я бы без промедления удалилась в мои бургундские замки, если бы там не протекали крыши. Шпельманы об этом знали и были так любезны, что временно приютили меня, причем единственная моя обязанность — предупреждать против козней света совершенно неискушенную Имму. Разумеется, здоровье мое терпит большой ущерб оттого, что эти распутницы садятся по ночам мне на грудь и я вынуждена наблюдать их непристойные гримасы. Вот причина, по которой я и прошу называть меня просто фрау Мейер, — шепотом добавила она, нагнувшись к Клаусу-Генриху и дотронувшись рукой до его рукава. — У стен есть уши, и я поневоле вынуждена была принять инкогнито и хранить его, чтобы избавиться от преследования этих развратных тварей. Скажите, вы ведь исполните мою просьбу? Ну, смотрите на это как на шутку… на безобидную игру… Право же…
Она замолчала.
Клаус-Генрих сидел прямо, в чопорной позе, на плетеном стуле и не спускал глаз с графини. Прежде чем покинуть свои строгие ампирные апартаменты, он при помощи камердинера Неймана совершил туалет с той тщательностью, какой требовало его протекавшее у всех на виду существование. Пробор начинался над левым глазом и шел наискось до самой макушки, так что там наверху не только что прядка, даже волосок не топорщился, а справа волосы были зачесаны над лбом компактной волной. В плотно прилегающем форменном сюртуке с высоким стоячим воротником, что способствовало строгой выправке, с майорскими эполетами из серебряной канители на узких плечах, сидел он, слегка прислонясь к спинке стула, но не позволяя себе ни малейшей поблажки, весь собранный, подтянутый, одна нога чуть выдвинута вперед, а левая рука прикрыта правой на эфесе сабли. На его юном лице бессодержательная, одинокая, строгая и трудная жизнь оставила следы усталости; однако он смотрел в лицо графине с приветливым, ясным и неуклонно сдержанным выражением.
Она замолчала. Разочарование и скорбь отразились на ее лице, в утомленных бессонницей серых глазах промелькнуло что-то похожее на ненависть, и в окраске лица произошла удивительная перемена, одна половина его вспыхнула, другая побледнела. Опустив ресницы, графиня ответила:
— Я живу в семействе Шпельман три года, ваше королевское высочество.
Персеваль вдруг так и взвился. Приплясывая, виляя, пружинящей рысью устремился он навстречу своей хозяйке, величаво встал на задние лапы, когда Имма Шпельман вошла в зимний сад, и в знак приветствия положил передние лапы ей на грудь. Пасть его была открыта, между крепкими белыми зубами высовывался кроваво-красный язык. В такой позе он напоминал геральдического зверя.
Она была чудесно одета: в домашнем платье из кирпичного шелка-сырца, рукава свободно свисающие, разрезные, и во всю грудь вставка из тяжелой золотой вышивки. Большой яйцевидный драгоценный камень на жемчужной цепочке украшал ее обнаженную шею, по цвету схожую с обкуренной морской пенкой. Иссиня-черные волосы, зачесанные на косой пробор и закрученные простым узлом, норовили упасть прямыми прядями на лоб и на виски. Обхватив седовласую голову Персеваля своими красивыми по-детски тоненькими пальчиками без колец, она сказала, наклонившись к самой его морде:
— Ну… ну… здравствуй, дружок. Что за встреча! Мы истосковались оба, изныли в разлуке. Здравствуй, здравствуй! А теперь ступай на свое место. — Она сняла его лапы с золотой вышивки на своей груди и отступила в сторону, чтобы он стал на все четыре ноги.
— Ах, принц! Добро пожаловать в Дельфиненорт, — сказала она. — Я вижу, вам претит нарушать слово. Посидим тут. Нас позовут к чайному столу… Должно быть, я поступила против всяких правил, заставив себя ждать. Но меня позвал отец, а вас пока что занимали беседой. — Ее блестящие глаза с некоторым сомнением поглядывали попеременно на Клауса — Генриха и на графиню.
— Да, мы побеседовали, — ответил он, затем задал вопрос о самочувствии мистера Шпельмана и получил удовлетворительный ответ. Мистер Шпельман будет иметь удовольствие познакомиться с Клаусом — Генрихом за чаем, а пока просит извинить его… Что это за прелестная пара лошадей запряжена в карету Клауса-Генриха?
И они заговорили о своих любимых лошадях, о добродушном гнедом Флориане Клауса-Генриха, выращенном на Голлербруниском конном заводе удельного ведомства, об Имминой арабской кобыле Фатьме, белой, как кипень, которую мистер Шпельман получил в подарок от одного восточного властителя, о резвых венгерских рыжих, которых для фрейлейн Шпельман запрягали четверкой…
— Ас окрестностями вы познакомились? — спросил Клаус-Генрих. — Побывали уже в великогерцогском охотничьем заповеднике? В саду Фазанника? Тут много приятных прогулок.
Нет, фрейлейн Шпельман на редкость не способна находить новые места, а о графине и говорить нечего, — ей по натуре чужда всякая предприимчивость. Потому-то они и облюбовали для верховых прогулок все те же дорожки городского сада. Пожалуй, это скучновато, но фрейлейн Шпельман вообще не избалована новизной и занимательными приключениями. Тогда он сказал, — что им следует как-нибудь в хорошую погоду проехаться в охотничий заповедник или в замок Фазанник, на что она, выпятив губки, ответила, что это, пожалуй, можно на всякий случай иметь в виду. Но тут появился дворецкий и торжественно возвестил, что чай подан.
Они прошли через увешанную гобеленами аванзалу с мраморным камином, впереди важно выступал butler, рядом, приплясывая, бежал Перси, а замыкала шествие графиня Левенюль.
— Графиня, должно быть, наболтала вам невесть чего? — на ходу спросила Имма, даже не понижая голоса.
Клаус-Генрих испуганно опустил глаза.
— Ведь она может услышать! — шепотом проговорил он.
— Нет, она не слушает, — ответила Имма, — я научилась читать по ее лицу. Когда она так вот наклоняет голову и щурит глаза — значит, она вне жизни и поглощена своими мыслями. Но все-таки она успела вам наболтать?
— Слегка, — признался Клаус-Генрих. — У меня создалось впечатление, что графиня по временам дает волю свой фантазии.
— Она очень много выстрадала. — При этом Имма посмотрела на него испытующим взглядом больших черных глаз, как смотрела на каждом шагу в Доротеинской больнице. — Я расскажу вам в другой раз. Это целая история.
— Да, — подхватил он. — В другой раз. В следующий раз. Скажем, по дороге.
— По дороге?
— Ну да, по дороге в охотничий заповедник или в Фазанник.
— Ах, я и забыла, как добросовестно выполняете вы то, о чем уговариваетесь. Хорошо, пусть будет по дороге. Здесь ступеньки вниз.
Они очутились в задней части дворца. Из галереи, сплошь завешанной большими картинами, несколько устланных ковром ступенек вели вниз, в белую с позолотой боскетную, высокая стеклянная дверь которой выходила на террасу. Все здесь — и большая хрустальная люстра, висевшая посреди белого лепного потолка, и симметрично расставленные золоченые кресла с затканной цветами обивкой, и белые шелковые драпировки, падающие тяжелыми складками; и помпезные стоячие часы, и вазы, и золоченые-шандалы на белой мраморной доске камина перед высоким стенным зеркалом; и огромные позолоченные канделябры на львиных лапах, возвышавшиеся по обе стороны входной двери, — словом, все напоминало Клаусу-Генриху парадные покои Старого замка, где он с детских лет привык нести службу, только здесь свечи были поддельные с излучающими золотистый свет электрическими лампочками вместо фитилей, и все у Шпельманов во дворце Дельфиненорт было в прекрасном состоянии и блистало новизной. Отороченный лебяжьим пухом лакей заканчивал в одном из углов комнаты сервировку чайного стола; Клаус-Генрих остановил взгляд на самоваре, нагревавшемся электричеством, о котором прочел в «Курьере».
— Господину Шпельману доложили? — спросила молодая хозяйка дома.
Дворецкий утвердительно склонил голову.
— Значит, ничто не мешает нам сесть за стол и приступить к чаепитию без отца, — с нарочитой высокопарностью заявила она. — Идемте, графиня! А вам, принц, я бы посоветовала снять оружие, если только этому не препятствуют причины, не доступные моему пониманию…