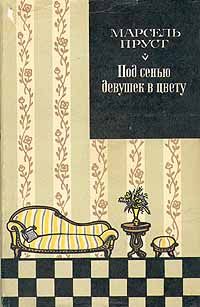Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету
Но так как почти каждый раз, что я навещал г-жу Сван, она звала меня приходить пить чай с ее дочерью и рекомендовала мне отвечать непосредственно ей, то я часто писал Жильберте, и в этой переписке я не искал фраз, которые могли бы, как мне казалось, убедить ее, я пытался лишь проложить потоку моих слез самое покойное русло. Ибо печаль, подобно желанию, не занимается самоанализом, но стремится к успокоению; когда начинаешь любить, время проходит не в размышлениях о том, что такое твоя любовь, но в приготовлениях, обеспечивающих завтрашнее свидание. Когда поступаешься чем-нибудь дорогим, то бываешь озабочен не познанием своей печали, но тем, чтобы высказать ее самыми нежными словами той, которая нам ее причиняет. Говоришь то, что чувствуешь потребность выразить и чего та, другая, не поймет, говоришь только для самого себя. Я писал: «Я думал, что это будет невозможно. Увы, я вижу, что это не так трудно». Я также говорил: «Вероятно, я вас больше не увижу», — говорил это, по-прежнему остерегаясь холодности, которую она могла бы найти притворной; и когда я писал эти слова, я плакал, так как чувствовал, что они выражают не то, чему мне хотелось бы верить, но то, что случится в действительности. Ведь когда она следующий раз попросит меня о свидании, я, как и теперь, найду в себе мужество не уступить и так, от отказа к отказу, постепенно дойду до того, что, не видясь с ней больше, я и не буду хотеть ее видеть. Я плакал, но находил в себе мужество, познавал блаженство жертвовать счастьем встречи ради возможности понравиться ей со временем, когда, увы, мне будет безразлично, нравлюсь ли я ей. Даже гипотеза — впрочем, столь мало правдоподобная, — что она все еще любит меня, как она утверждала, когда я в последний раз был у нее, и то, что я принял в ней за досаду, которую обыкновенно вызывает общество надоевшего человека, имело причиной ревнивую обидчивость, притворное равнодушие, подобное моему, — даже эта гипотеза делала мое решение менее мучительным. Мне казалось тогда, что через несколько лет, когда мы успеем забыть друг друга, когда я смогу сказать ей задним числом, что это самое письмо, которое я писал в ту минуту, было совершенно неискренно, она мне ответит: «Как? Вы меня любили? Вы? Если бы вы знали, как я его ждала, этого письма, как я надеялась на свидание, как я плакала». Мысль, завладевшая мной, когда я сидел за письмом к ней, тотчас же по возвращении от ее матери, мысль о том, что, быть может, я подготовляю сейчас подобное недоразумение, эта мысль, такая печальная, позволяя мне воображать, будто я любим Жильбертой, тем самым побуждала меня продолжать письмо.
Если, покидая г-жу Сван, когда ее «чай» приближался к концу, я думал о том, что я буду писать ее дочери, то г-жа Котар, уходя, занята была мыслями совершенно иного характера. Делая «маленький смотр», она не упустила случая поздравить г-жу Сван с новой мебелью, с последними приобретениями, замеченными в гостиной. Она, впрочем, могла встретить здесь кое-какие, хоть и очень немногочисленные вещи, находившиеся когда-то у Одетты в ее особняке на улице Лаперуз, в частности зверей, сделанных из драгоценного материала, ее фетишей.
Но когда г-жа Сван от одного из своих друзей, которого чтила, узнала слово «затасканный» — открывшее ей новые горизонты, так как оно обозначало именно те вещи, в которых несколько лет тому назад она видела «шик», — то все эти вещи, одна за другой, последовали в ссылку, вслед за золоченым трельяжем, поддерживавшим хризантемы, за многими бонбоньерками от Жири и почтовой бумагой с короной (не говоря уже о картонных луидорах, разбросанных на каминах и принесенных в жертву еще задолго до знакомства со Сваном по совету человека, который не лишен был вкуса). Впрочем, среди художественного беспорядка, среди пестроты ателье, в этих комнатах, где стены еще были выкрашены в темные цвета, как нельзя более отдалявшие их от белых гостиных, которые г-жа Сван завела несколько позднее, Дальний Восток все глубже отступал перед натиском XVIII века; и подушки, которые г-жа Сван, желая усадить меня с большим «комфортом», нагромождала у меня за спиной и уминала, были усеяны букетами во вкусе Людовика XV, а не китайскими драконами, как раньше. В комнате, где ее чаще всего можно было найти и о которой она говорила: «Да, мне она очень нравится, я много в ней сижу; я не могла бы жить среди неприязненных и безвкусных вещей; здесь я работаю» (точнее не указывая, впрочем, над чем она работает, над картиной ли, или, может быть, над книгой; желание писать книги начало появляться у женщин, любящих чем-нибудь заняться, избегающих безделья), она была окружена саксонским фарфором (настолько любя этот вид фарфора, название которого она произносила с английским акцентом, что говорила по любому поводу: «это мило, это напоминает цветы из Сакса»); еще больше, чем прежде по поводу китайских болванчиков и ваз, она опасалась, что его коснутся невежественные руки слуг, которых за причиненное ей волнение она карала вспышками гнева, не возмущавшими Свана, такого вежливого и мягкого хозяина, если он при этом присутствовал. Отчетливое понимание некоторых слабостей не умаляет, впрочем, нежности, наоборот, она заставляет нас находить их очаровательными. Теперь своих близких друзей Одетта реже принимала в японском халате, отдавая предпочтение светло-шелковым и пенистым пеньюарам Ватто, в которые она погружалась, словно лаская на груди их цветущую пену, в которых она тешилась и нежилась с видом такого довольства, чувствуя такую свежесть кожи и так глубоко дыша, что, казалось, смотрела на них не как на украшение, вроде рамы, но как на нечто необходимое, вроде «tub»[27] и «footing»,[28] удовлетворяющее требованиям ее внешности и ее утонченной гигиены. Она имела обыкновение говорить, что ей легче было бы обойтись без хлеба, чем без искусства и без чистоты, и что если бы сгорели целые «полчища» знакомых, это огорчило бы ее меньше, чем если бы сгорела «Джоконда». Теории эти ее приятельницам казались парадоксальными, но благодаря им она среди них считалась женщиной незаурядной и каждую неделю принимала визит бельгийского посланника, так что в том маленьком мире, солнцем которого она была, каждый был бы удивлен, узнав, что в других местах, у Вердюренов например, ее считают глупой. Благодаря этой живости ума г-жа Сван предпочитала общество мужчин обществу женщин. Но когда она критиковала последних, то всегда как кокотка, указывая в них недостатки, которые могли бы им повредить в глазах мужчин, — толстые кости, дурной цвет лица, безграмотность, волосы на ногах, скверный запах, фальшивые брови. Напротив, к женщине, проявившей к ней прежде снисходительность и любезность, она относилась с большей нежностью, особенно если та была несчастна. Она умело защищала ее и говорила: «К ней несправедливы, ведь она милая женщина, я вас уверяю».
Не только обстановку, но и самое Одетту трудно было бы узнать г-же Котар и всем тем, кто раньше бывал у г-жи де Креси, если бы они долгое время не виделись. Она казалась на много лет моложе, чем раньше. Без сомнения, это отчасти было вызвано тем, что она пополнела и, поздоровев, была на вид более спокойной, свежей, отдохнувшей; с другой же стороны, тем, что новые прически с приглаженными волосами оставляли более открытым ее лицо, которое оживляла розовая пудра, и глаза ее и профиль выделялись не так резко, как прежде. Но другая причина этой перемены заключалась в том, что, достигнув середины жизни, Одетта наконец открыла или изобрела свой индивидуальный облик, неизменный «характер», особый «вид красоты», и нескладные черты своего лица — которые, будучи так долго предоставлены рискованным и бессильным прихотям плоти, при малейшем утомлении переживая целые годы и на время старея, создали ей, худо ли, хорошо ли, смотря по ее расположению и ее виду, облик невыдержанный, изменчивый, расплывчатый и очаровательный, — подчинила этому определенному типу, словно бессмертной юности.
У Свана в комнате, вместо недавно снятых прекрасных фотографий его жены, на которых то же загадочное и победоносное выражение позволяло узнать, какие бы платье и шляпа ни были на ней, ее торжествующий силуэт и лицо, был маленький старый дагерротип, совсем простенький, где, казалось, отсутствовали молодость и красота Одетты, еще не найденные ею в то давнее время. Но, должно быть, Сван, хранивший верность иному представлению или вернувшийся к нему, в этой молодой худощавой женщине с задумчивыми глазами, с усталыми чертами лица, то ли идущей вперед, то ли застывшей на месте, ценил скорее боттичеллиевскую грацию. Ему действительно и до сих пор нравилось видеть в своей жене образ Боттичелли. Одетта же, которая, напротив, старалась не подчеркнуть, а сгладить, скрыть все то, что ей не нравилось в себе самой, что для художника составляло, может быть, ее «характер», но что с ее женской точки зрения было недостатком, и слышать не желала об этом живописце. У Свана был чудесный восточный шарф, голубой с розовым, который он купил потому, что он был точь-в-точь такой же, как покрывало на Богоматери в Magnificat. Но г-жа Сван не желала носить его. Лишь однажды она позволила мужу заказать ей платье, все усеянное маргаритками, васильками, незабудками и колокольчиками, как у Примаверы в «Весне». Иногда вечером, если она была утомлена, он совсем шепотом обращал мое внимание на неосознанное ею самой мягкое, немного беспокойное движение ее задумчивых рук, напоминающее Богоматерь, когда она макает перо в чернильницу, которую ей протягивает ангел, чтобы писать в священной книге, где уже начертано слово «Magnificat». Но он прибавлял: «Только не говорите ей, а то она переменит позу».